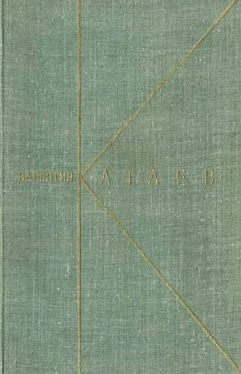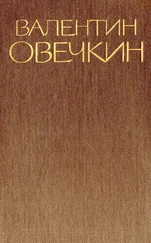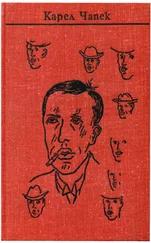— Надула, — подтверждает Иринка.
Мы возвращаемся на террасу и опять садимся к столу. Я кладу голову на лист бумаги с нарисованными садовником, цветочками и девочкой. Иринка что-то долго бормочет про себя вполголоса, затем начинает мурлыкать песенку. Потом смолкает и через минуту начинает трясти меня обеими руками за голову:
— А ты не спи! Ты не смей спать!
— Ну, что случилось?
Я просыпаюсь.
— Ты заспал бумагу, — говорит Иринка. — А я что-то знаю! Ты умеешь нарисовать музыку?
— Музыку? Не умею.
— А я умею, а я умею! — быстро говорит она и начинает старательно рисовать на бумаге запутанные клубки и комочки. При этом она опять что-то про себя напевает. — Вот, — торжественно говорит она. — Это музыка! А ты не умеешь! Ага! Ты умеешь только рисовать садовника, и девочку, и куколку, а музыку не умеешь! Ага!
И по какой-то странной последовательности, щурясь, говорит:
— А нянька врет, что дед забирает детей в мешок. Деда нет.
Но тут слышится скрип калитки и шаги по гравию. Иринка прижимается ко мне, и я слышу, как у нее стучит сердце. Может быть, дед?
Я осторожно разбираю рукой ветки сирени, и мы вместе, Иринка и я, смотрим, кто там идет. Нет, это не дед. Это Иван Алексеевич. Частые кляксы лиственной тени косо и быстро бегут по его полотняной, ладно выглаженной толстовской блузе сверху вниз. На его поскрипывающих и похрустывающих столичных штиблетах желтый порошок цветущего бурьяна. В руках — толстая палка. Бородка приподнята. Пенсне заложено в боковой нагрудный карманчик. Гордый горбатый нос и внимательно прищуренные глаза.
Я знаю, Иван Алексеевич долго бродил по степи, по обрывам, любовался морем, купальщицами, пароходным дымом. Он, несомненно, заметил, что поверхность моря похожа на синюю шагрень, а подводные камни просвечивают сквозь воду, как черепаховый гребень. Все это прекрасно, но вдруг быстрый, звенящий, поющий, ноющий, грохочущий, стеклянный, скрежущий шум проносящегося за оградой трамвая наполняет сад. Иван Алексеевич останавливается. Зеркальный сухой блеск трамвайных стекол вспыхивает за пыльной изгородью туй, как магний, и летит по стволам через сад, пересчитывая весь его кудрявый инвентарь. И вослед ему долго ноет проволока.
Иван Алексеевич стоит и слушает. Лицо его крайне озабочено. Я знаю, о чем он думает. Он думает, на что похож этот длинный, музыкальный, такой типичный, но ни на что не похожий звук потревоженной трамвайной проволоки. На хроматическую гамму? Может быть. На виолончель? Возможно.
А впрочем, бог его знает!..
Зной сияет над садом.
1918
Опыт Кранца [29] * * * Опыт Кранца . — Первоначальный вариант под названием «В обреченном городе» опубликован в 1922 году в январском номере журнала «Новый мир». Журнал этот был предшественником теперешнего «Нового мира». Просуществовал он недолго. Вышло всего два номера. Валентин Катаев рассказывает: «Выпускали его в противовес нэповским журналам», которых возникло уже немало — «Рупор», «Москва», «Русский вестник» и др. «Новый мир» был изданием кооперативным: «Центросоюз плюс частные лица выпускали этот журнал». Но редакторов сюда назначили партийных: руководили «Новым миром» писатели-коммунисты В.Нарбут, В.Бахметьев, А.Серафимович. «Так начиналась борьба с нэпом в печати». Валентина Катаева сделали ответственным секретарем редакции: «Я стал там работать. Отсюда и пошли мои литературные связи... Познакомился с лефовцами»[Беседа от 14 апреля 1962 г.]. Рассказ был отредактирован А.Серафимовичем. Валентин Катаев вспоминает, что писатель упрекнул его в одностороннем, условно-романтическом изображении жизни Одессы в годы острой классовой борьбы. Не удовлетворило строгого редактора и завершение рассказа. Катаев обрывал его словами: «Вы держите папиросу не тем концом». А.Серафимович предложил закончить рассказ иначе и сам дописал последнюю фразу: «А в это время на темных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулеметы, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».
I
Некий молодой человек по фамилии Кранц, студент-математик, белокурый, коренастый малый с коротким, твердым немецким носом, костистым упрямым лбом и широко расставленными глазами, больше всего на свете любил чистую математику и от жизни ничего не ждал: ни хорошего, ни дурного. Любил он математику потому, что ее простая, сложная и точная философия очень хорошо подходила к его привычкам, взглядам на мир, и с нею ему было очень удобно жить на свете. Главную цель жизни он полагал в том, чтобы думать правильно, точно, логично и благодаря этому видеть мир таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его себе представляло большинство людей, не изучавших высшей математики, читавших романы и стихи, влюблявшихся в женщин и посещавших театры. Средством к достижению этой цели были те необходимые условия, в которых можно было бы спокойно думать: теплая комната, удобная одежда, обед, чай и папиросы. Кранц жил скромно и денег тратил мало: столько, сколько ему нужно было на комнату, еду, книги, письменные принадлежности, трамвай, прачку и папиросы. Одет он был всегда хорошо, однако не щеголевато, в синие диагоналевые брюки, аккуратно облегавшие его короткие, икрастые ноги, и в толстую черную форменную тужурку, слегка вытертую по швам, но хорошо сидевшую на его плотном туловище и широких плечах. Толстые отвороты этой тужурки были всегда тверды, хорошо разглажены и торчали, не сгибаясь, толстыми дубовыми углами. Кранц писал сочинение на медаль: вычисление орбиты кометы 1873 года. Работа была очень трудная, чисто теоретическая и интересная.
Читать дальше