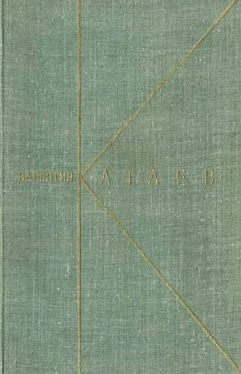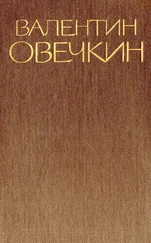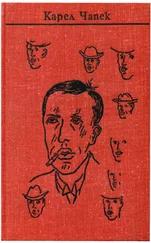Гимназист шестого класса казенной гимназии тайком подымается по лестнице якобинского клуба!
Попечитель учебного округа, горбатый карлик с золотыми очками на рачьих глазах, действительный статский советник Смольянинов мог сойти с ума от одной этой мысли.
Все же я решился.
Я снял форменный пояс — потрескавшийся ремень с зазубренной в боях мельхиоровой бляхой; я выломал из веточек латунного герба «О. 5 Г.» заглавные буквы своей альма-матер, одесской пятой гимназии; я скрутил в толстую трубу общую тетрадь в зернистом переплете, на котором были выскоблены перочинным ножичком якорь и сердце, пронзенные стрелой.
В эту тетрадь были аккуратно вклеены синдетиконом немногочисленные вырезки бесплатно напечатанных стихотворений и отроческим почерком переписана только что законченная «Зимняя поэма», где размером некрасовского «Рыцаря на час» я почему-то пространно живописал охоту на зайцев, о которой не имел ни малейшего представления и с трудом бы отличил зайца от кролика. Подробности же охоты я заимствовал из хвастливых рассказов некоторых своих гимназических товарищей, грубых сыновей степных новороссийских помещиков.
Я жил на окраине.
Для того чтобы попасть в «литературку», мне пришлось пересечь город, измученный и оглушенный послеобеденным зноем.
Это было последнее довоенное лето, последний зной отрочества, последние краски Одессы — города Дерибаса, Ланжерона, Ришелье.
Над витринами магазинов были опущены полосатые парусиновые тенты. За пыльными стеклами витрин выгорали выставленные напоказ кожаные портмоне, зефировые рубашки, подтяжки, бумажные манжеты — вся та скучная галантерейная заваль, покупатели которой сидели на фонтанах и лиманах по горло в теплом бульоне июльского моря.
В порту визжали тормоза товарных вагонов, сонно стукались тарелки буферов, тоненько посвистывали паровички-»кукушки», лебедки издавали звук — «тирли-тирли-тирли...».
В гавани стояли иностранные пароходы. Бронзовый дюк де Ришелье с бомбой в цоколе простирал античную руку к голубому морю, покрытому светлыми дорожками штиля.
Фруктовые лавки бульвара ломились под тяжестью бананов, ананасов, кокосов. В маленьких бочонках, покрытых брусками сияющего искусственного льда, плотно лежали серые бородавчатые раковины остендских устриц.
Дышали зноем фисташковые пятнистые стволы платанов «Пале-Рояля». Ни души не было под аркадой знаменитого городского театра, окруженного чугунно-синими скульптурами гениев и муз.
В этот невыносимо знойный вечер я прощался со своим отрочеством. В этот вечер — еще не зная этого — я выбрал себе дорогу и уже шел по улицам, как иностранец, удивляясь достопримечательностям и красотам неповторимого города, переставшего быть для меня родным.
Этот вечер остался в моей памяти как цветная открытка за стеклами стереоскопа, как раскрашенный вид, где голубое, безоблачно-глянцевое небо переходит к горизонту в желто-розовые литографические зерна зари, где на углу неподвижно сидит на козлах понурый русский извозчик в слишком синем кафтане и в слишком блестящей клеенчатой шляпе, где спицы дрожек цвета ярчайшей киновари, где чугунно синеет раковинообразный купол городского театра и сверхъестественно зелен газон перед этим театром, великолепный, роскошно выстриженный газон — чудо садоводства, с винно-красными бегониями и прочими декоративными растениями, выложенными в виде герба города и царских вензелей, с купами махровых цветов, расставленных посредине, как бархатная мебель мещанской гостиной, обшитая свекольно-алыми шерстяными и шелковыми кистями, помпонами, бахромой, — и все это в виду лакового моря с яхтой и чайкой и пузырем воздушного шара над горизонтом.
Я поднялся по лестнице, покрытой красной дорожкой. Швейцар в тужурке с галунами посмотрел на мою фуражку с выломленным гербом, на общую тетрадь в руках и пропустил меня.
Я вошел в большую комнату с задернутыми шторами. С улицы доносились знойные звонки трамваев (трамвая еще был для Одессы новинкой: он начал ходить с одиннадцатого года).
Сквозь шерстяные, как бы тлеющие, шторы проникал смуглый свет раскаленных угольев.
В клубной приемной напряженно сидели на мягкой мебели очень молодые люди. Их было человек тридцать. Привыкнув к сумраку, я мог рассмотреть их подробно. Это были юноши школьного возраста, подобно мне, неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обернуты материей, пояса сняты, из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но еще в черных гимназических брюках.
Читать дальше