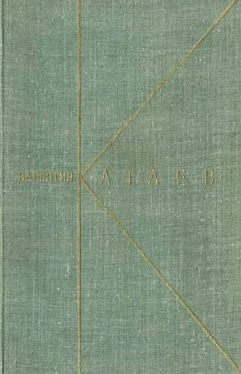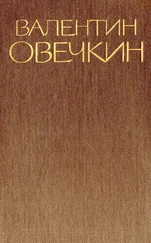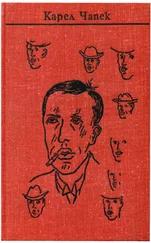Впервые за четыре часа полета смолк мотор. Удивительнейшая тишина настала в мире.
Незаметно произошло нечто необъяснимое. В правом окошке пропала земля. Ее место заняло опрокинутое небо — громадное пустое пространство, осторожно тронутое ангельской рябью облаков. Оно могущественно притягивало к себе, как круглая поверхность синей планеты. Между тем левое окно сплошь закрыла земля. Она нежно прильнула к нему всеми своими возвращенными подробностями: растянутым кругом бегов, жарко блистающими стеклами длинного автобуса, между прочим — розовым озером химического завода, затем лесами строящихся корпусов, известью, щебнем, заборами, зеленью.
Так, прежде чем перейти от общего к частностям, самолет занесся доской качели, поменял местами землю и небо (вишню и скамейку), сделал круг, выпрямился и пошел на посадку.
III
Остальную часть дороги Мусатов проехал потихонечку в поезде.
Это было не так интересно, но менее утомительно. Праздничное напряжение полета сменилось ленивыми буднями с вагонной грязцой, с кипяточком, с колбасной кожурой на сапоге соседа. Привычные железнодорожные подробности освободили мозг от слишком настойчивых обобщений полета. Всю дорогу Мусатов отдыхал и бездельничал. Казалось, он совсем забыл про неоконченный спор с Толстым. Однако мысль его незаметно продолжала работать, решая интереснейшие вопросы о странном поведении толстовских персонажей.
Возмутительно, например, вел себя Вронский.
Пустой, ограниченный светский офицер, он был помещен в роман не без задней мысли послужить отталкивающим примером животного начала в человеке. Совершенно неожиданно, несмотря на все свои постыдные недостатки, он оказался до такой степени симпатичным и приятным человеком, что даже старый большевик Мусатов и тот при взгляде на него не в силах был удержаться от улыбки удовольствия.
В то же время ищущий социальной справедливости Левин — честный, нравственный, горячий и весьма неглупый персонаж, специально предназначенный в пику Вронскому, — вдруг становился личностью настолько неприятной, что ни о каком ущемлении Вронского и речи не могло быть. Наоборот — от соседства с Левиным Вронский только выигрывал.
В чем же дело?
В былые времена это ставило Мусатова в тупик. Особенно смущал Стива Облонский.
Бездельник, обжора, паразит, либеральничающий бюрократ, белая кость — таких расстреливать надо... И расстреливали, — а поди ж ты! — до чего симпатичен и мил!
Но с течением времени Мусатов начал понемногу проникать в тайну толстовского стиля. Теперь ему казалось, что он постиг его совершенно.
Едва он доехал до места, залез под одеяло и взял к себе книгу, спор загорелся с новой силой. Надо было наконец раз и навсегда разоблачить всякие тайны.
Толстой тотчас вошел, маленький, чистый, в мышиной блузе великолепного материала и обширного покроя, поскрипывая удобными козловыми башмаками на резинках. Он был немного сконфужен.
Мусатов обрушился на него, не дав опомниться. Он сразу прижал его к стенке.
«А ну-ка, Лев Николаевич, постойте. Я, конечно, вас чрезвычайно ценю и уважаю, вы — классик. Мы вас издаем. Но — извините... С вашими персонажами происходит нечто странное. Положительные получаются неприятными, отрицательные — очаровательными, жалко расставаться. И ведь нельзя сказать, чтобы тенденции у вас были слишком худые. Наоборот. Коренную тенденцию вашу я принимаю. Вы, конечно, настаиваете на своей общечеловеческой объективности. Но позвольте вам заметить, что именно эта объективность вас и подкосила.
Вы хотите встать над человечеством, в то время как даже еще не вышли из пределов своего класса. Выйти из пределов класса нельзя, не желая уничтожить этого класса. А уничтожать вы ничего и никого не хотите. Ваше происхождение диктует вам вкусы и мысли, хотя вам кажется это невероятным и невозможным.
Вы желаете быть объективным и начинаете хитрить с самим собой.
Выдумав истину, что над ближним нельзя совершать насилия, вы совершаете насилие над самим собой. Вы берете себя за горло. Вы любите Левина. Левин — это вы. Вам кажется, что Левин — это хорошо. Но вам стыдно быть субъективным и тенденциозным. Тогда вы берете бедного Левина и приписываете ему массу неприятных черт, чтобы сохранить так называемую правду. Вы наделяете Левина пошлой ревностью, наивностью, мелкопоместной грубостью, доморощенной философией. Вы не знаете меры, так как мера это и есть не что иное, как ненавистная вам тенденция. Вы черните Левина до тех пор, пока он не становится тошнотворным. Тогда вам кажется, что вы сохранили объективность и остались беспристрастным.
Читать дальше