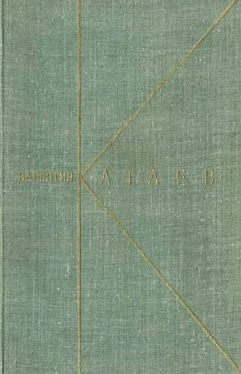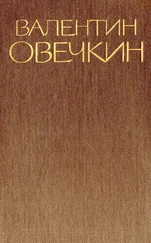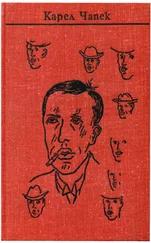Судья тряхнула седыми, коротко остриженными волосами, оправила на себе зеленую вязаную кофту, неряшливо осыпанную папиросной золой, мельком взглянула в дело и устремила на Людвига Яковлевича скучный, ничего не выражающий взор.
— Признаете? — спросила она очень утомленно.
— Вот этот самый кобёл и есть, — дробно заговорила старуха, перебивая судью. — Нешто такой признает? Держи карман! Кобёл и есть кобёл. Как с трудящейся девушки надсмеяться — на это они способные, товарищ народная судья, а как давать на содержание ребенка, так на это они неспособные. И соседи все, как один, могут доказать определенный факт, и товарищ делегатка пущай удостоверит...
— Помолчите, а то велю удалить, — поморщилась судья. — Так что же вы можете сказать, гражданин Книгге?
Людвиг Яковлевич посмотрел на Полечку. Она стояла пунцовая от стыда, соблазнительная, заплаканная, — полон рот слез, — опустив голову, и дрожащими пальчиками поправляла соску, вылезшую из маленького кораллового ротика ребенка.
Сердце Людвига Яковлевича дрогнуло.
— Я любил ее все равно как родную дочь, — сняв пенсне, сказал он дрожащим голосом и аккуратно вытер сырую щеку большим чистым носовым платком.
— Помолчите минутку. Это пролетарскому суду знать не интересно. Вы отвечайте на вопрос: признаете или не признаете?
— Признаю, — сказал Людвиг Яковлевич, замирая.
— А раз признаете, зачем же так некрасиво поступили? Довольно стыдно! А еще интеллигентный человек. Разве можно девушку с ребенком на руках выбрасывать на улицу.
— Я ее не выбрасывал, — сказал Людвиг Яковлевич, — я ее всегда любил все равно как родную дочь. И сейчас люблю.
— Помолчите. Вы отвечайте пролетарскому суду прямо: будете содержать ребенка или не будете? Будете с ней жить или не будете?
— Буду, — сказал Людвиг Яковлевич, прикладывая руку к сердцу. — Буду и никогда от этого не отказывался.
Старуха с извилистым носом всплеснула руками и быстро взглянула на парикмахера.
— Так-с. А вы, гражданка? — спросила судья Полечку.
— Я не отказываюсь, — прошептала одними губами девушка, опустив ресницы, отяжеленные крупными каплями слез.
— Я извиняюсь! — хрипло воскликнул парикмахер Макс, и уши его стали мраморными. — Граждане судьи... Я извиняюсь...
— Помолчите! — махнула на него карандашом судья. — Так в чем же дело, я не понимаю, если никто не отказывается?.. Все ясно. Ну, поссорились, ну, помирились. Нельзя в самом деле из-за каждого пустяка в народный суд бегать. Милые бранятся, только тешатся. Помирились, и ладно. И чтоб я вас больше здесь не видела! Анисимов, прекращай дело, оглашай постановление!.. До свиданья! Следующие!
Людвиг Яковлевич нежно и вежливо взял Полечку под руку. Они не торопясь прошли мимо окоченевших свидетелей и вышли из зала.
Через некоторое время к воротам дома, где жил Людвиг Яковлевич, подъехал извозчик. На высоком сиденье пролетки, как на троне, помещались Людвиг Яковлевич и Полечка, с двух сторон поддерживая полосатый матрас, поставленный стоймя.
1929
На полях романа [49] * * * На полях романа . — Опубликован в сентябрьской книге журнала «Красная новь» за 1931 год. Затем отдельным изданием вместе с рассказом «Ножи» в библиотечке «Огонек» в 1932 и 1933 годах.
I
...Человек высокого роста спустил ногу со ступеньки. Вагон стоял в голове. Платформа сильно уехала назад. Дурно зашнурованный башмак не достал до земли. Человек подкинул спиной швейцарский мешок, сказал: «Гоп!» — и прыгнул на землю.
«Как Подколесин», — тотчас подумал он и юмористически хмыкнул.
В детстве, рассматривая сочинения Гоголя, видел картинку: над землей, вдоль окна, висел в воздухе согнутый в три погибели господин в узких клетчатых панталонах со штрипками, с завитым хохолком над гусиной головой. Некто Подколесин. С тех пор, прыгая с высокого, каждый раз обязательно вспоминал Подколесина. Это осталось на всю жизнь.
А жизнь была длинная и непростая.
Огни станции хотя были и далеко, но блестели прямо в глаза и мешали видеть. Он расставил руки и, думая о страшной власти памяти над жизнью, пошел раскорякой сквозь темноту, как сквозь туннель.
Его ждали. Он поравнялся с будкой, заваленной виноградом и арбузами. Фруктовый свет упал на белую бородку и клетчатую от морщин щеку. Его окликнули:
— Товарищ Мусатов?
— Я самый, — ответил он хорошо выработанным басом старого партийного работника. Он остановился, вглядываясь в людей, стоящих за светом. Их было довольно много.
Читать дальше