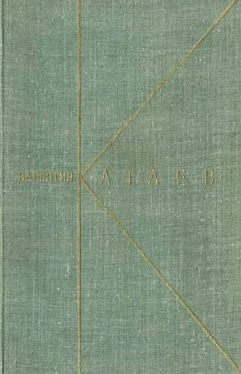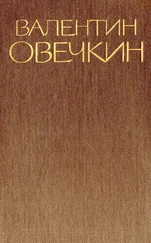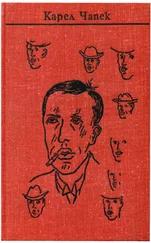В окнах горел слабый свет. Ерохин поднялся по скрипучим, обледенелым ступеням на крыльцо и зажег спичку. При фиалковом ее огне он увидел тусклую медную дощечку и прочитал: «Отец Григорий Иоаннович Смирнов». Ерохин дернул за кривую проволоку. Одновременно со звуком дилинькнувшего колокольчика за дверью, обитой войлоком и клеенкой, глухо заворчала и тявкнула собака. Потом громыхнуло ведро и со стуком упал железный крюк. Дверь приоткрылась.
— Кто там? — спросил в щель суровый голос.
Не отвечая, Ерохин открыл дверь и шагнул в темные сени. Фигура открывшего отступила. Ерохин закрыл дверь, нашарил впотьмах крюк и опустил его в петлю.
— Не узнаю, — произнес суровый голос и дрогнул, — не узнаю...
Ерохин тщательно вытер ноги о подвернувшийся половик. Они оба, один наступая, другой отступая, молча двигались через сени, пока не попали в освещенную лампадой комнату. Тут они ясно увидели друг друга. Зажав в кулаке острый наперсный крест, прижимая его к плоской груди, как кинжал, священник смотрел на Ерохина глазами, полными ужаса, судорожно ища позади себя опоры и не находя ее. А Ерохин, косо улыбаясь и осторожно похрустывая косточками пальцев, прошелся по комнате, осмотрительно ступая по узкому половичку, как по мостику. Казалось, он не замечал священника, весь погруженный в какие-то свои, одному ему интересные мысли.
— Я кликну... — проговорил отец Григорий высыхающим голосом и задохся. — Я кликну... людей...
Кулак, сжимавший крест, задрожал у него на груди.
— Не то, — задумчиво и почти мягко сказал Ерохин, махнув рукой, — не то. Не беспокойтесь!
Отец Григорий отступил на шаг, и тут его рука нашла позади опору — ребро стола. Он прочно ухватился за него.
— Тогда зачем пришли? — сурово спросил он, и вдруг ему показалось, что он понял. Сила возвращенной власти поднялась в нем, и священник выпрямился во весь свой небольшой, тщедушный рост. — Не ко мне, не ко мне, — сказал он, повышая торжественный, торжествующий голос, треснувший от волнения. — Аз есмь недостойный иерей. Не ко мне... нет... нет...
Отец Григорий поднял руку, словно отгораживаясь и отстраняясь.
— Нет, не ко мне... К нему, к нему!
Широкий, подвернутый рукав рясы обнажил худую, бледную кисть, протянутую в угол. Там, в божнице, перед темным, почти черным золотом икон светилась лампадка.
— К нему, к нему! — продолжал говорить отец Григорий, задыхаясь теперь и понижая голос до шепота. — К нему!
Его тощие, бескровные щеки, точно исхлестанные кнутом и зарубцевавшиеся вокруг рта, мертво белели при нищем свете лампадки. Ерохин вскользь на ходу взглянул на божницу и опять сделал рукой, точно отмахиваясь.
— Не то, Григорий Иванович, не то. Это мы лучше оставим.
Он сел на стул возле голландской печки, жадно положил ладони на ее неровную и горячую, как пирог, поверхность и понурился.
— Тогда зачем же? — сухо спросил священник.
Ерохин молчал. Казалось, что он спит. Из сеней вышла длинная собака и легла у его ног. В комнате было тепло и духовито, но все-таки Ерохин продолжал дрожать мелкой, едва заметной дрожью. Священник заправил и зажег лампу, поставил ее на стол, а сам уселся в кресло и принялся, насупившись, ждать. Наконец Ерохин очнулся. Он поднял голову и красными от утомления глазами осмотрелся.
— Извините, — сказал он в раздумье, — я вас, вероятно, потревожил. Впрочем, я могу и уйти. Я ведь безо всякого повода. Просто так, посидеть. Нужно же мне было куда-нибудь пойти?
— Так, так, — сказал отец Григорий, одобрительно кивая головой и вдруг вскинув короткую подвижную, как пиявка, бровь, — в гости, значит, к врагу. Так, что ли?
Ерохин кивнул головой и улыбнулся.
— К идеологическому противнику. Привычка.
Отец Григорий снова закивал головой.
— Так, так. Понимаю. Для морального удовлетворения? Диспут? Извольте.
Но Ерохин уже не слушал его, погрузившись в раздумье. Его лицо стало печальным.
— Вы меня давеча обидели, — тихо сказал он. — Впрочем, не будем об этом говорить, я не за этим. Я сам иногда... Но как вы могли так оскорбить ее? За что? Почему? Постойте... Не надо ничего говорить... Я все понимаю...
Ерохин снова задумался, потом встал и заходил по комнате своей осмотрительной охотничьей походкой.
— Сегодня утром я ее отвез на кладбище. Она умирала пять суток. Вы знаете, что это такое — умирать пять суток от ожогов? Она заживо гнила. Последние дни ей уже нельзя было делать перевязок, потому что вместе с бинтом отрывались целые полосы гниющего мяса. Представляете себе эту боль? И она терпела. Терпела, чтоб не мучить меня. Она еще думала, что не умрет, а у меня уже в это время кружилась голова и тошнило от ужасного зловония ее гниющего тела, которого ничем нельзя было заглушить. Вся забинтованная, как кукла, она заставляла меня иногда наклоняться к ней и смотреть в глаза. Тогда она говорила: «Ты знаешь, Митя, мне кажется, что я поправлюсь. Медленно, но все-таки поправлюсь. Скажи мне только честно, ты не разлюбишь меня? Ведь без волос я стала форменным уродом. Впрочем, ты не беспокойся, они скоро отрастут. Через год я уже буду завиваться». Иногда, не в силах вытерпеть боли, она начинала плакать горячо и обильно, как ребенок. Я не мог выносить этого плача. Я убегал в дежурную комнату, ложился на диван, закрывал глаза, и меня начинал трясти озноб. Тело мое горело, как от ожогов, — грудь, руки, ноги, живот, — те самые места, которые были обожжены у нее. Я расцарапывал их ногтями до крови. Я готов был содрать с себя кожу, лишь бы ей стало легче. Вот посмотрите.
Читать дальше