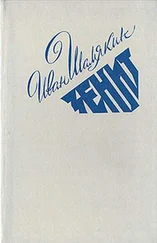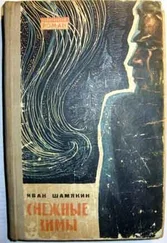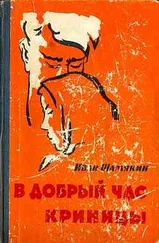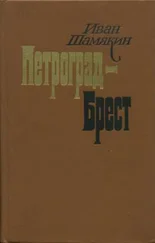— Прошу к столу, дорогие гости. Начнем. Больше ждать никого не будем.
Тогда Максим с удовлетворением, оглядел присутствующих. Гостей было немного — человек десять. И всех их он ещё шесть лет назад называл дядями и тетями. Крайней от двери на низенькой скамеечке сидела Сынклета Лукинична. Она была в шелковой шали, которую он привез ей в подарок из Маньчжурии; розовая тень от платка ложилась на лицо, и оно казалось помолодевшим.
Максим поднялся и подошел к матери, чтобы за стол сесть рядом с нею, но Шаройка остановил его:
— Нет, нет, нет!.. Виновнику — почетное место. Вот сюда, — он показал на верхний конец стола.
Максим улыбнулся и позвал мать.
— А то, как в песне, все по паре, все по паре…
— А ваша где пара? — громко и, как показалось ему, с некоторым ехидством спросила Полина. — Где Маша? Мы вас ждали с Машей.
— Да-а, Маши нет? — Шаройка растерянно оглянулся, как будто Маша была и вдруг неожиданно провалилась сквозь землю. — Э-э, Максим Антонович, что же это вы!
— А я думала, что у вас уже все оформлено. Об этом же все село знает, что ты Машу туда забирать хотел… Да вот, слава богу, сам приехал, — пропела своим густым басом Бирилиха.
— Маша — девушка хоть куда. Первая работница в колхозе, — задумчиво и серьезно сказал Бирила.
Максим стоял, растерянно глядя на гостей.
Он видел, что все удивлены отсутствием Маши и совершенно всерьез требуют, чтоб он её пригласил. Но как это сделать, если он ни разу ещё не был у нее, хотя уже вторую неделю дома? И к тому же ещё эта чертовка Алеся, с кото рой у него не было никакого желания встретиться.
Он чувствовал, как ему становится жарко, а в душе растет злость против этой расфуфыренной обезьяны Полины. Но вдруг он встретил взгляд матери и подумал: «Она с ней в дружбе, за дочку считает… Вот пускай и разобьет этот лед…»
— Мама, сходи, пригласи её. От моего имени. Ну и, само собой разумеется, от имени хозяев.
Сынклета Лукинична намеревалась было что-то сказать, но смутилась и молча направилась к двери, сразу как-то сгорбившись, постарев. Но никто этого не заметил.
Сынклета Лукинична вышла из хаты в густую тень улицы и, оглянувшись, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает её, тяжело вздохнула. Упругий морозный воздух ударил в лицо. И, может быть, от него, от ветра, выступили слезы на глазах, на миг захватило дыхание. Она постояла немного, смахнула слезу и медленно пошла на огонек в хате Кацубов. Впервые шла она туда с такой неохотой, с такой тяжестью на душе.
Сынклета Лукинична знала, что Маша откажется от приглашения и, больше того, непременно обидится, оскорбится и, может быть, даже на нее: как она, старая дура, согласилась прийти с таким приглашением? Но и не выполнить поручения сына сразу же после его возвращения мать тоже не могла. Что тогда подумает о ней Максим?
Сынклета Лукинична ещё раз вздохнула.
«Сынок, сынок! Разве ты не понимаешь, что так делать нельзя? Обижаешь ты девушку».
Она подошла к хате и заглянула в окно — дома ли Маша? Хоть бы не было её дома — было бы легче, не пришлось бы ни говорить с ней, ни врать сыну. А разве она могла ему соврать?
Но Маша была дома. Она ходила по комнате, кутаясь в теплый платок, и говорила о чем-то горячо, громко, так что и сквозь двойные рамы голос её долетал на улицу. За столом сидела Алеся.
Сынклета Лукинична отошла, чтобы, сохрани боже, не услышать, о чем они говорят. Никогда в жизни она не подслушивала чужих разговоров.
Она взошла на крыльцо с резными столбиками и с лавочками по бокам. Присела и долго сидела. Если б она знала, что в это время в хате говорили о её сыне, она, верно, так и не отважилась бы зайти.
А в хате и в самом деле говорили о Максиме. Днем к Маше прибежала работница фермы, комсомолка Гаша Лесковец, двоюродная сестра Максима, с жалобой. Утром Шаройка пришел на ферму и забрал четырех гусей и лучшего поросенка. Сказал, что все это — для чествования героя.
Низенькая толстая Гаша каталась по комнате, как футбольный мяч, и взволнованно строчила, как из пулемета:
— Что ж это такое получается? Без году неделя, как вы шло постановление, сколько говорили о нем, сколько говорили и всё забыли уже, всё по-старому. Опять Шаройка растаскивает колхозное добро. Мне не жалко гусей. Гусей много, их все равно планируем продавать. Вот пускай и заплатит по рыночной цене, а поросенок? Только завели свиноферму, первый приплод… Мы этих поросят на руках носили, как детей. И вдруг — на тебе! И самого лучшего! Самого красивого! «Героя чествовать»! — передразнила она Шаройку. — Скажи на милость, какой герой! Две медали нацепил — и герой! Да лопнет он, хотя бы и герой, если столько съест! — Гаша вдруг сообразила, что наговорила лишнего, вспомнила, кто такой для Маши Максим, и кинулась к ней, порывисто обняла — Ты меня прости, Машенька, я, дурная, наговорила чего и не надо! Но ведь нельзя же так! Скажи ты им, Максиму скажи. Разве ему это нужно! Разве он такой человек? Да и тетка Сыля против этого будет. Скажи, чтоб он откач зался от такого угощения, пусть Шаройке будет стыдно.
Читать дальше