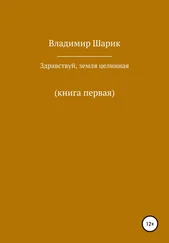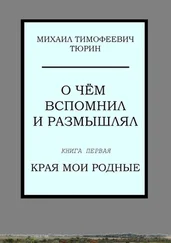— Отец помер от воспаления нутра, мамаша с сеструшкой там. А у вас в хуторе как? Лукерья Нагульнова там проживает?
— Она, парнишка, с мужем ить развелася…
— Где же она зараз? — оживился Тимофей.
— У тетки живет, на вольных харчах.
— Ты, дядя Яков, вот что… Ты, как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне беспременно нынче же харчишков принесла сюда. Я отощал вовзят, не пойду, надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюже. Сто семьдесят верст и ночьми, а по незнакомой местности ночью знаешь как ходить? Идешь вслепую… Пущай принесет. А как чудок поправлюсь, сам в хутор приду… Скучился по родным местам досмерти! — и виновато улыбнулся.
— Как же ты жить думаешь в дальнеющем? — выпытывал неприятно пораженный встречей Яков Лукич.
И Тимофей, с ожесточившимся лицом, ответил:
— Не знаешь — как? Я зараз на бирючином положении. Вот отдохну трошки, приду ночью в хутор, вырою винтовку… Она у меня зарытая соблюдалась на гумне… И зачну промышлять! Мне одна направления дадена. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу… кое-кто почухается! Ну, в дуброве перелетую до осени, а с заморозками подамся на Кубань либо ишо куда. Белый свет-то просторный, и нас, таких вот, найдется, гляди, не одна сотняга.
— Лушка-то Макарова вроде к председателю колхоза зачала прислоняться, — нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лушка бегала к Давыдову на квартиру.
Тимофей лег под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке. Но он, хотя и с паузами, все же заговорил:
— Давыдову, вражине, первому… В поминание его пущай… А Лушка мне верная… Старая любовь не забывается… Это не хлеб-соль… Я к ее сердцу стежку всегда сыщу… не заросла, небось… Загубил ты меня, дяденька, своим хлебом… живот мне раздирает… Так Лушке перекажи… пущай сала и хлеба принесет… Хлеба побольше!
Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в дуброве завтра начнется порубка, выехал из леса и направился на поле второй бригады, чтобы осмотреть засеянный кубанкой участок. На всем пространстве недавно углисто-черной пахоты нежнейшей зеленой прошвой сияли наконец-то пробившиеся всходы…
В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шел домой все под тем же, не покидавшим его весь день, тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рваным. А дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность…
Еще в сенцах выскочившая из кухни сноха шепотом предупредила его:
— Батя, у нас гости…
— Кто?..
— Половцев и энтот… косой. Пришли, чуть стемнело… мы с маманей как раз коров доили… Сидят в горенке. Половцев дюже выпитый, а энтого не поймешь… Обносилися обое страшно! Вши у них кипят… прямо посверх одежи ходом ходют!
…Из горенки слышался разговор; покашливая, насмешливо и едко говорил Лятьевский:
— …Ну, конечно! Кто вы такой, милостидарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой… Угодно? Пжалуста! Патриот без отечества, полководец без армии и, если эти сравнения вы находите слишком высокими и отвлеченными, — игрочишка без единого злотого в кармане.
Заслышав глухой половцевский басок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову…
Старое начиналось сызнова.
Над первой книгой романа «Поднятая целина» М. А. Шолохов работал в течение 1930–1931 годов, завершая одновременно третью книгу «Тихого Дона». «Поднятая целина» создавалась в период решающих исторических событий. В постановлении ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» была выдвинута задача перехода от политики ограничения кулачества к политике ликвидации его как класса. «Я писал «Поднятую целину» по горячим следам в 1930 году, когда еще были свежи воспоминания о событиях, происшедших в деревне и коренным образом перевернувших ее: ликвидация кулачества как класса, сплошная коллективизация, массовое движение крестьянства в колхозы…» — говорил Шолохов, выступая перед рабочими-железнодорожниками в Ростове-на-Дону (газета «Молот», 1934, 8 октября).
Постоянно живя на Дону — на территории одного из важнейших зерновых районов страны, в котором борьба с кулачеством принимала особенно ожесточенный характер, — общаясь с рядовыми казаками, станичной интеллигенцией, партийными работниками, Шолохов накопил огромный материал, свидетельствующий о коренном переустройстве жизни деревни. Живо откликаясь на происходившие события, писатель публиковал в местных и центральных газетах заметки и очерки, где поднимал важные вопросы хозяйственно-организационной деятельности колхозов, говорил о людях, активно помогавших делу колхозного строительства (статьи «За перестройку» — «Большевистский Дон», 1931, 20 октября; «Преступная бесхозяйственность» — «Правда, 1932, 22 марта; очерк «Бригадир Грачев» — «Большевистский Дон», 1931, 7 ноября). Из этих же наблюдений художника над необычайно интенсивной жизнью деревни, вступавшей в начале 30-х годов на новый для нее путь, родился и роман «Поднятая целина».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



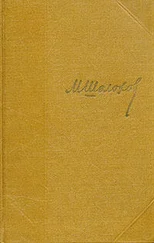




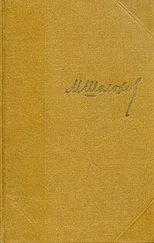
![Михаил Тихонов - Отшельники. Клан Заката. Книга первая. Приемыш [СИ]](/books/435870/mihail-tihonov-otshelniki-klan-zakata-kniga-perv-thumb.webp)