Мы их увидели возле оседланных, навьюченных лошадей и сразу бросились к ним. Очереди автоматные сплелись, резко ударили винтовки. Люди в зеленом стали вскакивать с земли, отстреливаются. Лошади, раненые или убитые, очень тихо опускаются на землю. Сначала на колени, потом ложатся. Стоит, будто дожидаясь, и вдруг, как рябь на воде, задрожит от крупа до шеи и падает на задние, на передние ноги…
Мы погнали обозных немцев в сторону большого боя, вслед ему. Они яростно отстреливаются, и нам снова и снова приходится падать, подниматься, ползти, стрелять.
Теперь лозняк, небольшой лес этот, как бы окольцован стрельбой. И этот кольцевой бой, бой по кругу, медленно вращается. Немцы потеснили, теснят Косача, а мы их тесним. Костя-начштаба снова послал связного: снять тех, что оставлены в канаве, уводить, уносить следом за нами, по кругу наших раненых.
(Что происходило и как это получалось (как на рисунке: круг, «кольцевой» бой!), хорошо видно отсюда, издали — из автобуса, из памяти . Тогда же было только ощущение непредвиденности, странности происходящего и даже невозможности. Пожалуй, в такое и не поверил бы, если бы не с нами это происходило.)
Вот, кажется, то место, где нас встретила цепь немцев с пулеметами. Земля, торф тлеют, везде стреляные гильзы, ржавые пятна впитавшейся крови, красно-белые бинты, клочья одежды. Но убитых не видно. Косач унес наших. И немцы тоже забрали своих. Лежать остались на месте трупы власовцев. Но их снова потревожили — все они без ремней и подсумков, а один и без сапог.
Надо бы приостановиться и дождаться своих раненых (из той канавы), надо бы быстрее бежать, чтобы настигнуть основных немцев, которые теснят Косача. Но у нас времени нет ждать, но и сил уже не осталось бежать. Мы то срываемся на бег, то бредем, задыхаясь от ядовитого чада, кашля. Солнце — как красная круглая дыра в шевелящемся от дыма и облаков небе.
Кольцо боя вращается вокруг леса, не имея возможности разорваться: ни мы, ни немцы не решимся броситься в сторону, где горят торфяники, или уходить по дороге, открыв себя пулеметам. Автоматные очереди там, где немцы и Косач, звучат все реже. Уже не бой — как бы предупреждающее рычание. Это на противоположной стороне круглого леса. Кто кого теперь преследует, кто гонит, а кто уходит, кто позади, а кто впереди?
А солнце — красное, большое в шевелящемся дымном небе — точно раскаленное, направленное в упор жерло…
Вот снова та канава: где мы оставляли своих раненых. Костя-начштаба распорядился задержаться, ждать. Залегли на всякий случай. Ждем своих, но кто появится на самом деле? От чада, от тошноты кружится голова, глаза совсем разъело дымом, а тут еще и кашель гонит слезы. Те, у кого глаза получше, уже видят наших, уже говорят, обсуждают, посмеиваются даже. Это всегда забавно: наблюдать со стороны, как знакомые люди идут с опаской, с оглядочкой, «на цыпочках». А я вижу только собственные слезы — радужное что-то, горячее от боли. Затем и для меня что-то темное задвигалось, появилось. Впереди идут дозорные, а следом по трое, по четверо — с носилками. Много их у нас, раненых, хлопцы совсем вымотались, посеревшие, мокрые, опустили, поставили на землю носилки и ругают нас:
— Бегаете, черти! От кого, от нас?
Раненые тяжело молчат, тревожно вслушиваются в стрельбу. Лишь те, кто без сознания, что-то говорят, говорят. Просят воды. Нам всем пить нестерпимо хочется. А от их сухого, горячечного шепота еще больше…
Но у некоторых раненых взгляд, глаза неправдоподобно спокойные, сосредоточенные. Это умирающие. Они умрут независимо от того, как окончится этот неправдоподобный бой. Когда смерть подступила к человеку и уже не уйдет, он остается один. Сколько бы и кто бы ни был рядом. (Я видел однажды, как умирал пожилой партизан в лесу. Возле него стояли два сына, тоже партизаны, и старуха. И все мы, кто был поблизости, подошли к телеге, на которой он лежал. Человек, не чуя уже ран своих, весь белый от бинтов, смотрел на нас вполне осмысленно, но так, будто нас и нет здесь, а только он и еще что-то, нам невидимое. Старуха тихо покачивалась над ним, держась обеими руками за телегу, а когда взгляд умирающего еще глубже уходил от нас, удалялся, она начинала нараспев говорить, причитать:
— Тихон, я плачу, видишь, и дети плачут, Тихон, и твои товарищи тут, Тихон, ты слышишь, мы плачем!..
Женщина так наивно, но и так понятно пыталась разорвать страшное одиночество смерти — одиночество последних мгновений человека. Меня кто-то убеждал, что последняя обязательная слезинка мертвого (о ней и Косач говорил, о последней, о вымороженной) — это слезинка одиночества, страшной покинутости каждого перед лицом смерти.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


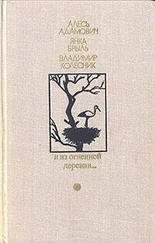

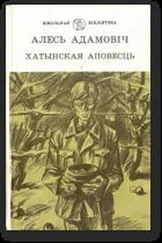
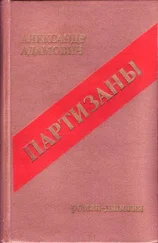
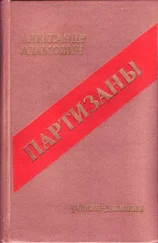


![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


