Лица, глаза раненых среди всего этого поражают неподвижностью, даже безразличием, за которым отчаяние и стыд, беспомощность, обида за свою неудачу. Но и среди раненых есть свои «веселуны».
— Тащи, братки, невод! Уха будет.
Меня сменили возле носилок-одеяла, но тут же в лицо мне заглянул Костя-начштаба, не узнал, конечно, но приказал:
— Помоги охране. Тащим еще фрицев зачем-то! Черт знает!..
Мы их, и правда, зачем-то гоним перед собой и вроде понимаем, зачем, почему, но по очереди поражаемся: «Черт знает что!» Я нашел их там, где голоса громче, резче. Здесь и Переходы — дядька и племянник. Они самые молчаливые в охране.
Дико видеть, как каратели стараются спастись от болота, как барахтаются, тянутся к чахлым деревцам и кочкам, хватаются за партизан, даже за Переходов, друг за друга, точно не понимают, что они уже мертвецы. Но, очевидно, не верит в это никто, пока жив. И потому ведет себя человек порой очень странно, нелепо, если смотреть со стороны.
Я не сразу узнал своего бритоголового врага, так вымочалило карателей болото, а этот еще без очков, как слепой. (Обезьяны уже нет при нем.) Несколько раз мы оказывались рядом. Но, странно, я точно стесняюсь чего-то. Не хочу, чтобы он узнал меня теперь, когда мы один на один, а не в толпе партизан, где я громко добивался, чтобы он увидел, разглядел, узнал меня, спасшегося из убитой им деревни. Не зря я так протестовал, так ненавидел с самого начала эту их беспомощную покорность, послушную старательность. Они точно заранее знали, ожидали, что во мне появится эта неловкость от сознания полной власти над чьей-то жизнью и смертью. Неловкость, которой в них самих, помнится, не было.
Я следую за своим главным врагом как привязанный, стерегу, как из засады, но близко, глазами встречаться мне не хочется.
Вдруг угрожающе колыхнулась в желтой темноте обманчивая поверхность, на которую он ступил. И тут же, по-бабьи вскрикнув и взмахнув руками, он провалился. Сначала появились пальцы, растопыренные, тянущиеся, потом выкатилась голова и осталась, как отрезанная, на подрагивающей поверхности твердого мха — без лица, без глаз, оплетенная тиной, точно внезапно обросшая.
— Эй, помоги тому, не видишь! — крикнули мне. Неустойчиво держась за низенькую корягу, я подал ствол винтовки, тронул им шевелящиеся пальцы. Они сразу бросились к моей винтовке, я едва не отдернул. А он уже всей тяжестью повис, стаскивая и меня с качающейся кочки. Будь это палка, а не винтовка, я уже выпустил бы ее из рук. А тут мы словно боремся за винтовку, вырываем один у другого. Я подтащил к себе оплетенную водорослями, тиной голову, дергающиеся плечи, руки моего врага, он схватился за корягу, за меня, жадно, испуганно, слепо. Я уже отталкиваю его, отрываю от себя, кричу свирепо:
— Ну что, так и будешь? Пошел, гадина!
Грязь оплыла с бритой головы, и уже видны глаза, близкие, безумные от испытанного ужаса! И как бы узнавшие меня.
И тогда я, рванув винтовку в сторону, клацнул затвором, но не удержался и сам схватился за его плечо. Схватился, схватил и, сверху, глядя в желтые от далекого зарева глаза, кричу:
— Ты, фашист, смотришь, вылазишь, гадина, жить, да, жить?!
Я выкрикиваю ему приговор и не могу пробиться сквозь бессмысленно-испуганные глаза старика с грязной головой. Передо мной эти глаза, а мне нужно, раз уж мы так близко и сейчас я убью его, я хочу увидеть того, кто стоял возле машины, сидел в машине…
Он, видимо, поняв, что это смерть кричит, рванулся в сторону и снова провалился по пояс. Я бросился за ним, прямо на него бросился. Теперь я толкаю, гоню его, вытирая свои слезящиеся глаза, именно его гоню, и он знает, что это я, что я есть, что я все время иду следом. Он близоруко оглядывается, как бы ищет меня. Теперь он знает, кто его хозяин, его жизни и смерти хозяин, и это как-то странно на него подействовало: он еще старательнее, уже как бы специально для меня спасает свою жизнь…
Наконец мы выбрались на залитые водой предболотные луга. Моросит утренний дождь на наши разгоряченные лица, дымящиеся паром шеи, руки.
Пытаемся, не снимая сапог, вылить из них желтую воду. Со стороны это выглядело бы как странная утренняя зарядка: огромная измученная толпа людей, стоя среди мокрого луга, занята тем, что каждый, хватаясь за соседа, по-птичьи поджимает назад ногу или выпрямляет ее перед собой. Те, у кого не сапоги, а сыромятные коровьи постолы или, еще лучше, лозовые лапти, устало нахваливают свою обувку, в которой ничего не задерживается, — ты и обутый и босой в одно и то же время. Налетай меняться! Но охотников меняться с ними и даже поддерживать усталую трепотню не находится.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


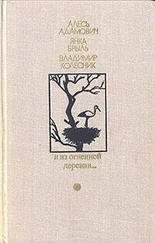

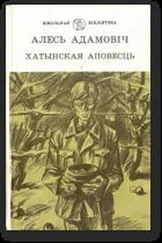
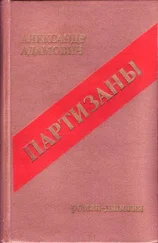
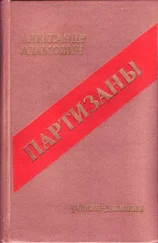


![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


