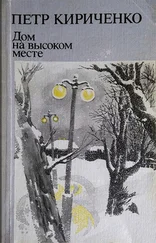— Где ты, Карло? Где вы все, люди?

В грозу Игорехе становилось тревожно, но тревога эта — не страх вовсе — наполняла его необъяснимой силой. Он понимал, что происходит что-то важное, как бы неповторимое, и уже тогда, в детстве, силился глядеть далеко сквозь напоенный электричеством воздух, синий и резкий, надеясь подметить нечто такое, чего не увидишь в обычные часы, вдыхал грозовой воздух широко открытым ртом и, когда молнии рвали ткань потемневшего неба, заливисто, сам не зная над чем, смеялся. И эти его всхлипы, похожие на крик ночной птицы, покрывались раскатистым громом, ветер с треском обметал деревья, налетал на Игореху, остужая горячий лоб, урчал, проносился низко над землей, сметая мелкий сор, и пропадал. А Игореха как зачарованный стоял на месте, хоть ему и хотелось не помня себя бежать стремглав от непонятного, заманчивого беспокойства, кричать хотелось от неумения высказать все то, что он чувствовал в грозу. Налетали другие молнии, хлестал ливень, и земля дымилась брызгами. Нитки сухой не оставалось на Игорехе, а он все стоял... Однажды молния с треском ударила в высокую акацию, росшую недалеко от колодца, расщепила ствол и обожгла ветви. Игореха даже испугаться не успел, жадно смотрел на белое пламя в кроне и на дым, тотчас взвившийся над деревом. Наконец-то он увидел то, что так редко удается видеть людям, и от этого еще большее беспокойство овладело им; ему казалось, он прикоснулся к чему-то таинственному, очень близкому и самому важному, что может быть в жизни. Поэтому иными увиделись ему и низкие хаты села, тянувшиеся от оврага двумя рядами, и стоявшие посреди выгона две каморы, в которых хранились какие-то колхозные запасы, и люди, которые обитали по соседству и к которым он присматривался с немым интересом, и многое другое... Отмеченная молнией акация усохла, почернела и долго еще стояла без листьев, издали похожая на нищенку, забредавшую изредка в село. После ее спилили и сожгли в печах.
Когда же вымокший Игореха, проскочив двор, влетал в хату, там было темно от темного неба, капли звонко барабанили в стекла окон.
— Ты чего?.. Али боишься? — спрашивала, бывало, мать, замечая беспокойные глаза Игорехи, и гладила по мокрой голове. — А вымок-то! Где тебя носило?..
Молчал Игореха.
Мать взглядывала на ливень, привычно вздыхала, подавая ему сухие штаны и сорочку, и не ждала ответа, потому что Игореха с детства отличался странностью: задумчив был не по годам и молчалив. Он и красив был необычно — по-девичьи: щеки румяные, глаза черные, посаженные глубоко и колючие, брови тонкие, волосы смолистые. А в глазах блеск и искорки, и оттого взгляд Игорехи был приметным. Поэтому девчата, постарше которые, рано заметили в нем красоту и, ущипнув другой раз, приговаривали:
— Ух! Молодец будет!..
И глядели на Игореху веселыми, по-женски жадными глазами. Да только он бежал от них, смотрел сердито и настороженно, а девчат это еще больше смешило.
— Поймаем! — грозили они в шутку.
Игореха вырос, окреп и изменился, став суровее лицом и строже в худобе скул. И красота теперь была другой — строгой, но все такой же необычной, потому что глаза остались по-прежнему беспокойными, и глядел Игореха на людей настороженно, будто хотел сказать: «Такой вот я!.. Смотрите!» Кому другому досталось бы за красоту, за колючий взгляд, но Игореху не трогали — добрейший человек. Поговори с ним — и сразу поймешь: отдаст последнее. Игореха и впрямь готов был помочь каждому, и перед каждым душа его была раскрыта. В летном отряде, где каждый на виду и где сразу же становится ясно, кто чего стоит, это особенно ценили, поскольку мало таких людей, совсем мало, можно сказать, и нет, разве вот — Игореха. Возможно, поэтому, глядя на Игореху, порой как-то не верилось, что он взрослый, женатый человек, что прожил на свете тридцать лет и научился всему, чему, живя среди людей, учатся другие. Да и научился ли? Кто скажет... Оставалось в его лице что-то по-детски чистое и тревожно-необъяснимое, что так редко встречается в людях. И все же Игореха — пилот, летает в небе — значит, доверили ему самолет, вот и гадай по-всякому.
Летая, возил Игореха людей, почту и грузы разные, бывал то в одном аэропорту, то в другом и, возвращаясь домой, не забывал прихватить какой-нибудь гостинец дочери, которую очень любил. Раньше он точно так же помнил и о жене, привозил ей то конфеты, то ранние фрукты с юга, рассказывал, где бывал и что видел, но после одного случая оравнодушел к ней и почти не замечал. Жена обижалась на такое отношение, грозилась, что уйдет из дому, но отчего-то не уходила. Возможно, было просто некуда уходить: чужими женами интересуются, когда они при мужьях, а останься одна — обойдут десятой дорогой. Она поняла это, приуныла, а после стала жить по-старому: ярко красила губы, румянила щеки и уезжала к какой-то своей подруге. И пока добиралась, успевала с кем-нибудь разговориться — натура такая. Верно, Игореха знал об этом, но ему было безразлично: жена стала первым человеком, о ком он совершенно не думал. И произошло это тогда, когда он вдруг обнаружил на спинке стула мужской галстук. Жена никак не смогла объяснить такой факт и, пожалуй, впервые в жизни покраснела, но поскольку щеки ее были не в меру нарумянены, то это было вовсе незаметно. Игореха не стал ее ни бить, ни терзать расспросами — он все понял, правда, несколько поздно. Соседи, к примеру, поняли это с год назад, и некоторые говорили о какой-то жизненной закономерности.
Читать дальше