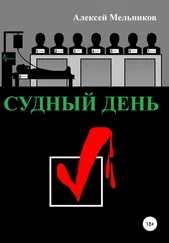— Да что же вы сидите грибами? Ай не к столу пришлась, не чакали? Иде гостюхна ваш? Бери бабу под руку да наливай пополней.
Я повел Ничипориху к столу.
— Ну-ну, постой, — остановила она меня. — Подивлюсь я на тебя. Матухна вылитая, матухна...
— Пригубь, Ничипориха, — поднес отец бабке чарку.
— Не, так у людей не водится. Кто в этом доме сегодня самый дорогой, тот пусть меня и потчует.
Она, не присаживаясь, приняла из моих рук чарку, опрокинула ее и закусила своим медом.
— Ох и солодкая, отрава. С одной и не разберешь — что соложе: ти то мед, ти то гарелка. Одной, хлопча, чаркой Ничипориху не угомонишь, с ног не собьешь. Давай по другой. Да помни — в разор ты меня ввел. Последний мед принесла тебе к столу, чем теперь троицу буду сустрекать?..
Под говорок обмочила свой стальной зуб в водке, облизала его, опрокинула другую чарку и повеселела:
— Ну что, хлопча, пуп твой не развязался? — Ничипориха толкнула меня в бок и засмеялась. — Не бойся — что Ничипориха завязывала, то и могила не развяжет... Ну, кого хороним: ни гомонки, ни песняка!
Ничипориха налила всем остальным. И потекла беседа. И в отцовском доме стало мне тепло и уютно, как никогда и нигде не было хорошо, ни в один из самых долгожданных и радостных праздников. Всколыхнулось застолье, загудело, забродило. Неразговорчивых сделало болтливыми, непесенных — голосистыми, стеснительных — смелыми. И я забыл обо всем на свете — о злой и доброй своей памяти, о горьком и сладком для меня времени в этом доме. Хотелось только одного: чтобы этот вечер никогда не кончался. Век бы сидеть и слушать родную полузабытую «гаворку». Каждое слово со смыслом и к месту. Где я еще смогу услышать его, где я еще так порадуюсь ему.
Закружив, завертев людей, Ничипориха замолчала и не мигая вгляделась в меня. Глаза ее были строгими и ясными, без хмельного наплыва, без старческой блеклости.
— На могиле матери был?
— Не успел еще...
— Гарелку пить поспеваешь, — старуха покачала головой. — Все мы вот так. Пить да гулять. Памятник на могилу, я понимаю, ставить приехал?
Я замялся. Я как-то даже не думал об этом.
— Гляди, хлопча, гляди... Високосный год живем. Что ни крестины, то хлопчик, что ни отел, то бычок. Бычки не к добру. И не поспеть можешь. У суседнем селе перед весной растелилась корова бычком с двумя головами. Аден пять назад дождь с громом был. И вдарила моланка в стог с прошлогодним сеном, а под стогом стояла жанчинка [1] Жанчинка — женщина.
. Шугануло в нее полымем, и из него вышел человек. «Горе-горе вам, люди», — сказал и в огонь ушел. Все как перед той войной... Гляди, что надумал делать — делай, делай не откладывая. Бегом сейчас жить надо, особливо нам тут, у Беларуси. Все войны праз нас идут... Что глядишь так? Думаешь, напилась? Не гляди, Ничипориха розуму не пропье... Перед той войной тоже все так было. Какое счастье в руки народу шло. И земля так родила и хлебом, и сеном, и грибами, и ягодой. И все как к черту в прорву ушло... Тигра тут у нас перед войной объявилась, народу тьму погубила.
— Откуда же здесь тигру взяться?
— А вот думай, гадай. Знал бы, где упасть, соломки бы подстлал. А еще...
Бабка оседлала своего любимого конька. Для многих сидящих здесь война — любимый конек, для многих она еще не кончилась, и кто его знает, когда кончится, когда заживут ее раны, кто их может залечить, придумать такое лекарство, чтобы хоть во хмелю не пекла людей давняя боль. Я не хочу про войну. Я хочу песен белорусских, белорусской говорки с пословицами, поговорками. Но мне, наверное, сегодня не суждено больше ничего слышать, кроме как про войну.
— У меня вон сколько орденов, — подсаживается возле меня отец. — Слушай, сынок, записывай про войну. Записывай, пока мы живы. Ордена...
— И жена под крыжом на деревенском кладбище, и дочка рядом с ней малолетняя, и сын ушел из твоего дома по чужим людям куска хлеба просить. Ты про это мне хочешь рассказать?
Лицо отца темнеет, стареет, наливаются кровью, обвисают щеки. На подбородке, на шее, возле правого уха спелой брусникой рдеют, наливаются рубцы старых ожогов. Козырьком жидко и жалко свисают надо лбом выцветшие, изъеденные солнцем волосы. Мне жалко его, я ведь люблю его, перегрыз бы глотку любому другому, кто осмелился бы сказать то, что сейчас сказал я. Но я уже не могу остановиться:
— Я тоже многое видел и перенес немало. Ты ведь даже не потрудился узнать, чем и как я жил все эти годы...
Отец уже трезв. Схлынула от щек кровь, лицо его светло и задумчиво. Только возле губ наливаются, синеют желваки. Я хорошо знаю эти желваки, они всегда вздувались перед тем, как он снимал ремень, когда до беспамятства наливался гневом. Я жду ремня. Но у него слезы.
Читать дальше



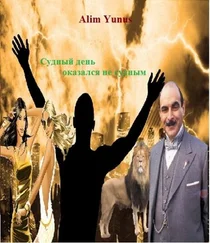
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)