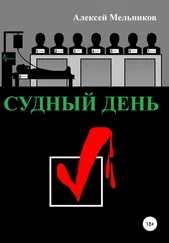Виктор Козько - Судный день
Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Козько - Судный день» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1982, Издательство: Известия, Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Судный день
- Автор:
- Издательство:Известия
- Жанр:
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Судный день: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Судный день»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Судный день — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Судный день», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
А слезы шли...
11
И умер Колька Летечка на следующее утро. На своем любимом крылечке. На восходе солнца. Когда детдом еще спал. Когда спал еще город. Умер легко и внезапно. Неожиданно для себя умер. Готовился, ждал, а все свершилось в минуту. Минута эта, правда, была разбросана мгновениями в последних часах, которые были ему отпущены в тот день, разбита на секунды. И, живя последние часы, он секундами в них чувствовал собственное умирание, некую мощную вспышку, голос-зов, которому нельзя было не подчиниться. Но самое главное мгновение, первые, самые главные секунды он пропустил.
Пропустил, быть может, потому, что время вдруг пошло для него как бы вспять. Он был в своем привычном вечернем сне-тумане. Но неожиданно все как бы вспыхнуло в нем и перед ним. Он увидел свои ноги, увидел новым, непривычным взглядом, не своим, теперешним, а давним-давним, полным недоумения и вопроса к самому обычному, к тому, что человек ходит, что эти два кривых сучка могут нести тело. И ему, как бывает в детстве, захотелось вдруг попробовать языком, вчера прорезавшимся зубом эти так неожиданно обнаружившиеся крепкие ноги. А ноги у него теперь и в самом деле были крепкими. Жить бы да жить с такими ногами. Не было больше ни в них, ни на них ни воды, ни опухоли. Просторно и легко вдруг стало его ногам в ботинках, и сами они просились с шага на трусцу.
Не успел Летечка привыкнуть к вновь обретенным здоровым ногам, не успел свыкнуться со светом и солнцем, с цветами на земле и в стекле, как обрел и новые сильные руки. Прихлынули к рукам кровь и сила, и зачесались они, запружинили, затосковали по работе, по топору, молоту кузнеца. Летечка чувствовал, у него теперь хватило бы дыхания махать топором, качать кузнечные мехи. Обновилось у него и сердце, не было в нем больше ни болей, ни хрипов. Вроде бы воздуха вокруг стало больше. И ликующая радость охватила его. Но... длилась она недолго.
Уже в следующее мгновение Летечка задумался: с чего это ему так хорошо? Крутнулся на месте, пробежался глазами по медно пылающему листвой осеннему саду, заспотыкался о красно высматривающие из этой листвы, вроде бы перезрелые, но на самом деле совсем-совсем зеленые яблоки, нырнул глазами в обманную при закатном солнце глубину пруда и словно ударился головой о песок. Заныло, застонало сердце, но не тем, прежним, ноющим и стихающим стоном, а непреходяще, не от боли, а от тоски. От прощальной разлучальной тоски. Хитрили то ли земля с ним и его телом, то ли он и его тело с землей шли на взаимный обман и немилосердный сговор. Земля убаюкивала его, даровала ему на час-другой здоровье и силу, чтобы заглушить страх и взять его навсегда, расслабленного, тепленького, изготовившегося жить, чтобы он уснул сегодня счастливый и радостный, уснул и не проснулся. Потому так и милостива, добра к нему в последний раз. А может, наоборот. Может, это тело, чувствуя свой последний час, так взывает о жизни, сжавшись от страха, глушит боль, уговаривает землю, просит поверить, что оно здорово, что ничего ему не надо, что ему всего хватает — и света и воздуха. Но и тело и земля знают, что будет дальше. Земля своего не упустит.
Знает об этом и Летечка. Знает и не боится. Чего бояться? Бояться ведь надо того, о чем не знаешь. А он уже столько раз умирал за свои семнадцать лет. Пальцев на руках и ногах не хватит посчитать, сколько раз он умирал. Его убивали в Тростенце под Минском, его живьем сжигали в деревенской хате в деревне Сучки, его сжигали на скотобойне в безымянной деревне, закапывали живым в землю, мозжили голову о кузов машины, убивали по капле в немецком киндерхайме. Он уже устал умирать. Надо ведь когда-то и по-настоящему умереть. Пришел час. Пробил. Он дождался его, суд идет, идет по земле Но пусть не думают те, кто убивал его, что отделаются легкой смертью. Он последует за ними и в землю. Будет суд и там. Грядет суд. Не для всех строятся новые дома, не для всех прокладывается асфальт. Кого-то по этому асфальту и вывезут, вывезут из этой идущей на лад новой жизни быстренько, пугливо, чтобы ни вони, ни скорби... А он двинется в свой последний путь по новой нетряской дороге неторопливо. Завтра ему, Летечке, уже некуда будет спешить. А пока надо поспешать. Надо поспешать.
И защемило, защемило сердце, на душе стало тоскливо, словно и он чем-то очень и очень провинился, виноват в чем-то перед всем белым светом. Перед изолятором, Зосей, Козелом, перед людьми и вещами. Изменил, предал и людей и вещи и сейчас убегает от людей и вещей. Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях, виноват и в том... в том... Он не мог высказать, в чем. Ему неожиданно припомнилась седая женщина, с которой он сидел в зале суда, которая испытала столько горя и стыдилась смотреть людям в глаза, словно во всем, что произошло с ней. была виновата она сама. И Летечка, как и та женщина, винил себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, что дорогим ему будет больно его и с ч е з н о в е н и е. Ведь впереди его ждало светлое и радостное. Он сам должен был нести это светлое и радостное другим. Но он так и не осветит никого и ничто, его свет и с ч е з н е т вместе с ним, ничего не случится, не произойдет из того, чему суждено случиться с ним. И ничего он не сделал из того, что должен был, обязан был сделать, ради чего он приходил, появился на белом свете, что должен, обязан сделать, оставить после себя на земле каждый человек. И он тосковал и винился в ту минуту перед всем белым светом за несделанное, несвершенное, что перебирает в памяти человек один на один в свой последний судный день и судный час. Щемило от тоски и стыда сердце. И Летечка заторопился, заспешил, чтоб хоть что-нибудь да успеть, чтобы хоть как-нибудь отблагодарить белый свет за то, что он видел солнце и небо, землю, за то, что он хоть и недолго, трудно, но все же жил на земле. И любил. Любил и любит...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Судный день»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Судный день» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Судный день» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



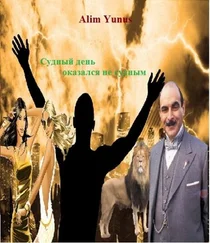
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)