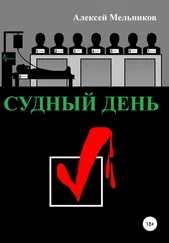Виктор Козько - Судный день
Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Козько - Судный день» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1982, Издательство: Известия, Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Судный день
- Автор:
- Издательство:Известия
- Жанр:
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Судный день: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Судный день»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Судный день — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Судный день», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Он несказанно обрадовался, когда увидел себя на детдомовском крыльце. Как он туда попал, Летечка уже не помнил и в первую минуту подумал, что все увиденное и услышанное им на суде во Дворце культуры — сон, что он еще продолжает спать, на минуту только открыл глаза. Надо снова их закрыть и попытаться уснуть, тогда прежний сон забудется и приснится что-то другое, хорошее. Ведь может ему присниться что-то хорошее, крупная рыба, например, она ведь ему часто снится. Баба Зося, правда, говорит, что рыба — это не к добру. Но какое зло может быть от рыбы? А еще часто во сне видит он какую-то дверь. Стена живой зелени, то ли хмеля, плюща, а может быть, даже винограда, и в этой облитой солнцем стене незаметная дверь, голубенькое пятно. На эту стену, на эту дверь он каждый раз выходил после долгих блужданий в каком-то мраке и тумане, когда его одолевала уже усталость, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, проваливался куда-то. В это мгновение как раз и освещалось все солнечным режущим светом и являлась голубая дверка. Он даже знал, куда она ведет. За стеной мир светлый и радостный, который он так тщетно разыскивал. Ему надо лишь подняться и толкнуть дверь. Он поднимался, подходил к двери, и тут обычно наступало пробуждение.
Сон этот всегда был сладок и желанен, Летечка пристрастился к нему, уже научился вызывать его, показывать себе по заказу. И сейчас он заказал его. Но напрасно жмурился и закрывал глаза — не было зеленой живой стены, не было приворотной голубой двери. Не спал он, явью были суд и дорога. И Летечка проклинал себя за то, что пошел на этот суд, и, проклиная, знал, что отправится снова туда, пойдет и завтра, и послезавтра. Будет ходить каждый день, пока суд не кончится, пока не вызнает все о себе и о полицейских. Там, на площади, та стена и та дверь, за которую он раньше, во сне, не мог попасть и которую не мог во сне открыть. Оказывается, стоило пройти лишь сотню-другую метров до этой площади. Здесь он узнает все. Кроме топчана, дороги, он еще кое-что припомнил из своей давней жизни. До того как он попал на топчан, были у него мать и отец, и дом у него был. Он ползал по этому дому, а потом уже и ходил своими ногами по желтым смолистым половицам. Первого своего шага не помнил, не помнил родителей, их вроде как и не было вначале, только желтый пол, на нем капельки смолы и липкие черные ладошки от этой смолы. Два окошка высоко над головой. Его все время притягивали к себе эти окошки. Кто-то постоянно подсматривал за ним из этих окошек, тянулся к нему, гладил, слепил глаза. И как-то он решил посмотреть, кто там, невидимый, все время задирает его. Приполз или притопал к окошку, вскарабкался на скамейку, залез на подоконник и встал, приложил глаза и губы к стеклу. Никого в окне не было, и за окном пусто: зеленый дворик, трава-мурава, курица на ней. Но курица смотрела себе под ноги, а вскоре исчезла. И все же чей-то глаз лежал на нем, чья-то теплая ладонь лежала на его голове. Он крутил головой, щурился, прятался за подоконник, пытаясь поймать этого невидимого. Но все было по-прежнему: теплая ладонь на его голове, чей-то взгляд на лице — и никого. Тогда он занялся тем, что стояло на подоконнике. А стояла там пузатая бутылка, заткнутая бумажной пробочкой. Ему никто не помешал откупорить эту бутылку, родителей не было. Они появились в следующую минуту, выросли, словно из-под земли, когда он хлебнул что-то жгучее, полоснувшее горло огнем. И он выронил бутылку, заорал благим матом и сразу же оказался на руках у черноволосой, тоже орущей благим матом женщины. А возле них бегал, суетился огромного роста мужчина, выше Захарьи, выше всех, кого ему приходилось видеть когда-либо. И, странно, мужчина тоже плакал. Все время приговаривал: «Больно, больно, больно... Потерпи. Мужчины не плачут, мужчины не плачут...» — и слезы текли по его лицу. Летечка тянулся к нему измазанной в смоле, мокрой от слез рукой, другой рукой, тоже мокрой и грязной, обнимал за шею женщину и уговаривал обоих: «Не плачь, мама, не плачь, папа...» — и плакал за них двоих и за себя, потому что не мог терпеть боли. Женщина и мужчина были его отцом и матерью. Он был их сыном. И хватил на окне из бутылки уксуса. Уксуса, потому что, кроме отца и матери, был еще кто-то третий, всплескивавший руками, повторявший: «Ой, пьяница буде, ой, горький, запойный, ой, горький, с малых годов, а уже за бутылку, что погорчей, за уксус, за уксус».
И все трое появились и пропали, растаяли, словно в тумане, растворились. Мать исчезла, словно вихрем смело. Была и нет, ни следа, ни памяти, черный провал. А мужчина еще мельтешил где-то в молочном, клочковатом, стелющемся полосами тумане. И он, Летечка, бежал куда-то рядом с мужчиной, и под ногами у него были и песок и трава, и спотыкался он о корни каких-то деревьев. Видел себя высвеченного на песке в белой полосатенькой рубашке, в черных штанишках с лямками крест-накрест, видел свое потное лицо с дорожками слез, сбитые о корни деревьев ноги. А вот ног отца, во что тот был обут, во что одет до пояса, не видел, не помнил. А выше пояса защитная гимнастерка и винтовка на сером ремне через плечо. Лица нет, загорелая медная шея, выгоревшие светлые волосы на затылке. Гимнастерка, винтовка, шея тоже временами пропадали. Рвано накатывал туман, клубился, и все тонуло в этом тумане. Только острый штык был не по зубам туману. Он пронзал его своим острием, резал гранями, будто не прилепленный ремнем к его спине, а сам по себе вырвался из земли, из тумана и сам нес себя над землей и туманом. Он остался в глазах Летечки, когда отца уже простыл и след. Иногда звенит, оживает в памяти, слышится и голос того третьего человека: «Ой, пьяница буде, ой, горький, запойный...» Старуха это, бабушка, и вроде как баба Зося, ее голос...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Судный день»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Судный день» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Судный день» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



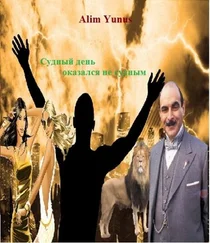
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)