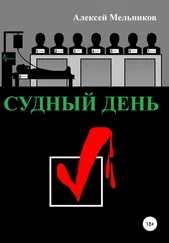Захарья постучал клюкой в раздаточное окно.
— Зина, ведро супу...
Повариха Зина высунула голову в окно и недовольно заворчала. Она любила кормить только детдомовцев. А конюхам, уборщице и даже дежурному воспитателю еду всегда подавала с ворчанием.
— Не бурчи, не бурчи, — сказал Захарья. — Мне, что свиньям, остатки.
Дежурные уже несли эти остатки, заранее предвкушая потеху. Ребячье тщеславие тешило и то, что самый обжористый человек на земле работает в их детдоме. Захарья отличался отменным аппетитом. Живота и мяса у него не было, кожа да кости, а спокойно мог умять пару двухкилограммовых буханок хлеба всухомятку или под ведро супа, сверху еще принять полуведерную кастрюлю каши и запить все это чайником компота. Тягаться с ним в детдоме мог только Андрей Бурак, у него тоже, как и у Захарьи, кожа да кости. Но поглощал он все, что ни подавали, не с голодухи, не из потребности есть, а скорее всего из жадности, давясь, соря и разбрасывая. И не держалась в нем эта лишняя еда. Захарья же ел красиво, вставал из-за стола как ни в чем не бывало. Любопытствующим свой неуемный аппетит объяснял тем, что в молодости съел гадюку. А случилось это, когда Захарья был в батраках у пана. Пан был злющ и тощ, кащей кащеем и обличьем и повадками. Батраки решили извести пана. Поймали, сварили и подали гада лесного. Проглотил пан того гада, и холера его не взяла, жив, толстеть только начал, появилось пузо, а вместе с пузом пришла и доброта. Захарье тоже захотелось иметь пузо, как у пана. И он тоже поймал для себя гада, сварил и слопал его. Но пуза так и не нажил, прожорливость только объявилась. Вечно не хватало ему еды — и тогда, при пане, и потом, без пана, в войну и в мирное время. И сейчас, когда пришло уже время помирать, живот все ненасытен, еды просит, прорва, а не живот, подавай ему и подавай, живет там гадюка, в животе, сосет и сосет.
— Сбег ты, значит, кинул меня одного, — Захарья подсел к Летечке и достал из-за голенища деревянную ложку, подул на нее, старательно обтер рукавом бушлата. — Сбег оттеда, Летечка-лихолетечка.
— Ты же сам меня кинул, — сказал Летечка. — Самогон с Ничипором пошел пить.
— Пил и самогон, Летечка, в жизни так не пекло мне душу... Прогул я сегодня совершил, Летечка... Душа болит. Первый раз в будний день — и без работы.
— Ты же на работе, — сказал Летечка. — Какой у сторожа прогул. Пришел, поел и в шалаш на боковую.
— Э, Летечка, в детдоме у меня не работа — служба. Работа в поле, в хате. Я плотник, Летечка, хаты людям рублю. И вот сегодня прогулял. А это правильно, что ты сбег. Не надо это тебе, Летечка, не ходи больше туда. — И Захарья замолчал, забыл про суп и про кашу. Как палочку какую-то ненужную, крутил в коричневых пальцах деревянную, но уже доживающую свой век, иссосанную, излизанную ложку. Края ее истончились, по всему за свой век хлебнула и она полной мерой и горячего и холодного. Ложка, похоже было, превратилась из деревянной уже в костяную. И хозяин ее из живого человека, из плоти изрос в одну громадную кость. Такой и в земле, и в песке, и в глине ляжет на века. И через века его отроют, как отрывают мамонтов, и будут изучать, как изучают мамонтов. А его, Летечкино, тело враз обратится в прах, смешается с землей, и не останется намека, что он был. Пыль, так ценимая слободскими новоселами слободская глина. Ее замочат пополам с песком в корыте, измесят босыми ногами мальчишки и бабы и бросят на стенку срубленного Захарьей дома. Пригладят мастерками, чтобы не выпирали его, Летечкины, вихры. Но будут жить в этой стене его глаза. И будет он видеть все, что происходит в доме, этими глазами, только сказать ничего не сможет. И хорошо, если достанется хороший дом, хорошая семья, чтобы никто друг друга не обижал и не обижали его, ведь он не сможет ни заплакать, ни попросить чего. Пусть это будет детдом, только не изолятор, упаси бог и после смерти попасть в изолятор...
Тут Летечка испугался по-настоящему, будто все, что ему представлялось, о чем он только что думал, уже случилось. На него дохнуло запахом лекарств, пахнуло горячечным дыханием Козела и Стася, их нездоровьем, страхом, нездоровьем и страхом и его самого. И Летечка почувствовал, что ему не хватает воздуха. Нечем, нечем и после смерти ему дышать. Он через силу поднялся со стула, вцепился обеими руками в спинку его и запрокинул голову, чтобы не видеть никого, дышать не этим, издышанным уже, жмущимся книзу воздухом, а тем, льющимся сверху, чистым и свежим, которого не касался даже Захарья. Потому что Захарья, казалось ему, давно уже в земле, в глине. Не было рядом с ним больше Захарьи, не видел он его. Но голос Захарьи достигал его, мешал дышать:
Читать дальше



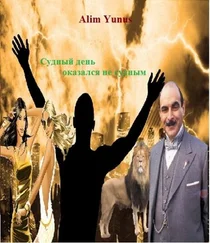
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)