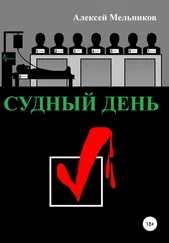На самой же площади творилось вообще что-то невообразимое. Только престольный праздник, ярмарка, приуроченная к этому празднику, собирали здесь столько народу. Но торговли сегодня на базаре не было. Не было ни звонких высоченных гор из макитр и горшков, не хрюкали в рогожных мешках поросята, не кудахтали, не теряли перо связанные веревочкой, с чернильными метками по белым и пестрым бокам куры, не бил в глаза желтый блеск деревенского крупитчатого с капельками росы масла — ничего этого не было здесь сегодня. Были хмурые, растревоженные мужики, всем кагалом, даже с грудными детьми приехавшие из дома в город. Жены этих мужиков, успокаивая заходящихся в крике детей, беспрерывно толкали им в рот тощие обвислые груди. И все чего-то ждали, удобно и обстоятельно умащиваясь на подводах, стоящих впритык одна к другой. Ждали лошади, лениво перебирая в подвешенных на головы торбах овес. Томились, ждали, слонялись по базару безлошадные мужики, пешедралом прибывшие в город, ждали чего-то горожане, пожаловавшие на площадь.
Захарья чинно здоровался с мужиками, приостанавливался почти у каждой подводы, упорно продираясь к крыльцу, к служебному входу Дворца культуры. Остановки эти и здравствования: «Жив?» — «Жив». — «А Кузьма-примак уже помер». — «Помер», — видимо, бесили его. Он пыхтел, отводил в сторону глаза, старался смотреть только себе под ноги, но его, высокого, громоздкого, все равно углядывали, затягивали в беседу.
— Сколько-то годков, Захарья, уж миновало, как мы тут с тобой последний раз балакали?
— Много уже...
— А баба твоя еще жива?
— Жива, жива, холера ее возьми...
— И-и, что ты, Захарья, родню не привечаешь, бежишь...
— Привечаю, Маланья, привечаю...
— И-и, вдовая я стала, бедная, собаки и те мою хату обминают. Завалилась моя хата, наказывала, с людьми передавала, пришел бы, пособил бы перебрать...
— Приду, Маланья, приду.
— И слезка божья у меня выдавлена, стоит-ждет первачок...
Летечка удивлялся, сколько знакомых у Захарьи, во все глаза рассматривал мужиков и баб. Раньше, когда он один, без Захарьи, ходил по базару, все они казались на одно лицо, неприступные, злые, пекущиеся только о своем добре, о том, чтобы он у них ничего не спер. А сейчас... И ему приятны были эти частые остановки и беседы Захарьи. А тот не таил довольства перед Летечкой, говорил ему:
— На меня, Летечка, уже и собаки не брешут, все уже меня знают. — Резал толпу плечом, как масло, и щедро раздавал «добрдень».
— Тю, Захарья, да не твой ли это, часом, хлопец?
— Мой, мой, кума, до другого разу...
— А скоро уже тут начнется?
— Скоро, скоро...
— Я ж их, Захарья, гадов, как тебя, видел. В нашу деревню их привозили. Я от имени мира всего христом-богом на минутку майора молил отвернуться. Понимаю, говорит, отец, служба, отец. Ах ты, мать твою... Жизнь у нас, Захарья, нечего бога гневить. Жить можно сегодня. Сегодня дают жить. А что было, что было... Две коровы сейчас держу, а раньше от одной был готов отказаться. А сейчас нечего бога гневить, можно жить. Злость только берет, что еще не перевелись на земле гады ползучие... Скоро их повезут?
— Кого повезут? Что тут будет? — спросил Захарью Летечка.
— Расплата будет. Живые мертвых судить будут. И не лезь! — отрезал Захарья. — Навязался на мою голову...
Они уже выбились из толпы и были у крыльца, на задах Дворца культуры, в прохладной тени его. Но здесь, в прохладе, Захарью неожиданно прошиб пот.
— Ох, брат, — сказал Захарья, вздымая голову к бетонному козырьку, нависшему над крыльцом. — Промашку дал, надо было не тебя, а кого-нибудь покрепче... Слушай, а может, я тебя туда подсажу, а?
— Я те подсажу, я те подсажу, — дедок с сивой козлиной бородкой свесил вниз голову. — Занята плацкарта, и местов больше нет.
— Здоров, Ничипор, — сказал Захарья, заметно повеселев. — Да как же ты, старый хрен, не рассыпался, туда ускараскался?
— Ускараскайся ты сюда, молодой хрен, тут я тебе и обскажу, — засмеялась, запрыгала бороденка.
— А ты хоть с подарочком? — льстиво спросил Захарья.
— А как же, мы припасливые, — и дедок старческой трясущейся рукой выставил на обозренье Летечке и Захарье увесистый булыжник. — Это за батьку моего им, деда Гуляя. Помнишь Гуляя?
— Помню, — сказал Захарья. — А ты Сучков моих всех помнишь?
— Э, Захарья, где ж тут всех упомнить? Шестьдесят дворов, почитай, было, и все Сучки. Тут бы годков своих не забыть да батьку.
— Ну так принимай и от моих, — и Захарья подал Ничипору свою половинку кирпича, завернутую в газету.
Читать дальше



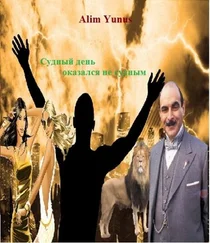
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)