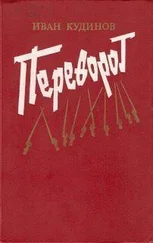— Да все равно. Спой что-нибудь.
— Что-нибудь? — насмешливо-горько сказал Николай и, помолчав минуту, добавил: — Что-нибудь я не пою… представьте себе, не пою.
Он опять умолк, и тут же, как бы из далекого далека, донесся едва слышный тончайший звон, словно где-то в ночи звенел и звенел одинокий колокольчик, и надо бы ему приблизиться, но он не приближался, надо бы удалиться, но и удаляться он не хотел. Звенел и звенел на одной струне… Что за непроглядная ночь, холодная и бесконечно долгая, что за песня, такая дивная, такая печальная, непостижимо печальная!.. И голос за стеной то крепнет, звенит, то падает до шепота, словно идет человек на ощупь, в темноте, боясь споткнуться…
Поет Николай Шишкин свою новую песню.
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна…
Иван прижимается ухом к стене, слушает, затаив дыхание, думает о поразительной способности старшего брата все перекладывать на музыку, буквально все, кажется, каждое слово, если он захочет, зазвучит у него, как песня. Если захочет… Только все его песни грустны, печальны, нет в них светлого начала, нет радостного конца.
…И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
Иван слушает и не удивляется тому, что звучат за стеной, в комнате брата, лермонтовские стихи. Он и сам души не чает в Лермонтове. Да и все остальные в семье Шишкиных любят Лермонтова, относятся к нему с величайшим почтением. Вообще книга в их доме почитается издавна, и заводилой книгопочитания, несомненно, является глава семьи — Иван Васильевич Шишкин.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
Слушает Иван, и душа его полнится сочувствием и любовью к брату, готов он за эту песню простить ему все обиды, несправедливости, оскорбления, и в то же время жаль ему до слез песню брата — так ей тесно, так неуютно в этих стенах, словно птице, попавшей в западню… «А песне, как и птице, нужен простор», — думает Иван, возвращаясь к столу и перебирая, перекладывая с места на место рисунки.
Ивану кажется, что первые проблески детского его сознания, первые впечатления, открытия и радости неизменно связаны с книгой. Большой двухэтажный шишкинский дом, не бедно обставленный, без книг, тем не менее, был бы пуст и неуютен. Книги стояли в прочных дубовых шкафах всегда открытыми — бери, читай, любуйся иллюстрациями. Отец не запирал шкафы, как это делалось в иных купеческих семьях, наоборот, всячески развивал в детях любовь к книге и всячески поощрял эту любовь. Он с любопытством приглядывался к тому, что и как читают дочери, сыновья, и сам читал жадно, яростно, любил поговорить и поспорить о прочитанном и всегда находил в книгах что-то такое особое… применительно к жизни. Таким он был и во всех делах своих, купец второй гильдии Иван Васильевич Шишкин. Говаривал: «Голова не чугун дырявый, она дана не для того, чтобы на плечах ее носить, а для того, чтобы думать». Много лет спустя, уже как бы подводя итог своей жизни, Иван Васильевич запишет в своей заветной тетрадочке: «От природы я одарен ростом 2 аршина 8 вершков… стройный, не толстый и не тонкий, волосы коротко носил, бороду стриг… На силу не жаловался — безо всякой тягости на веревке поднимал одной рукой десять пудовых гирь… Характера тихого и миролюбивого, но уж если тронут…»
Силой, должно быть, он удался в отца своего, Василия Афанасьевича, а мягкость душевную, «миролюбивость» унаследовал от дедушки по материнской линии Афанасия Ивановича Зотикова, коллежского секретаря. Род Зотиковых, к слову сказать, шел от попа Зотика, того самого священника, которому после взятия Казани в 1552 году Иван Грозный прислал в дар икону трех святителей. С тех пор небольшое село, расположенное в устье реки Тоймы, на высоком берегу, с которого открывался вид на многие версты вокруг, получило название Трехсвятского и начало из года в год расти, расширяться…
Отец же Ивана Васильевича, выходец из крестьян, был мастер на все руки — бондарь и краснодеревщик, пимокат и кузнец, но пуще всего прослыл умельцем по отливу колоколов, один из коих, трехсотпудовый, и по сей день висел на звоннице елабужского собора, и звон его, густой и чистый, празднично гудел в округе… Иван Васильевич любил об этом поговорить в семейном кругу, приурочивая, как правило, разговор к какому-нибудь торжественному моменту: праздник ли какой — не забывайте, с кого род начинался, именины ли чьи-то — помни, кому и чем ты обязан.
Читать дальше