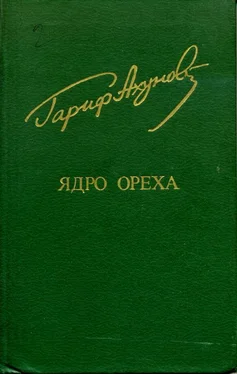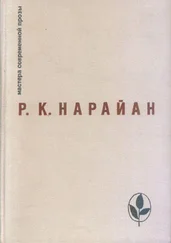Видит женщину, склонившуюся над ним, чувствует на пылающем лице ее легкую, нежную руку... плачет она беззвучно, не слышно, а Мирсаит, уже на скошенном лишь недавно актанышском лугу, ходит взад-вперед, топая гулко большими жесткими сапогами, хрустит резко кожаном, в руках у него — острая лопата. «То сон, не явь», — хочется крикнуть Мирсаиту, да какой же это сон? Вон и луна давешняя, большая, с мельничный жернов, светлая, сияющая — слепит глаза, и луг весь лучами ее усыпан, словно серебряными таньгами. И речка Шабаз течет белоснежно, едут конные арбы, украшенные кистями и полотенцами, на арбах сидят, обнявшись, люди, над головами у них косы сверкают прочерченно. Луна пропала куда-то, все так же сверкают острые косы, дорога длинным брусом протянулась через заводской котлован; арбы, заваливаясь крылами то влево, то вправо, проходят узким брусом. Резко задувает и сникает холодный ветер, бьет в лицо приятной прохладою, рука, шея и бока ноют долгой протяжной болью, воздух греется, накален, травы, и скошенные, красным пламенеют, вырывается пламя ввысь и лижет лицо Мирсаита, — боясь сгореть, стонет он и открывает глаза. Рядом с ним, в белом платке, синеглазая, сидит тихо женщина. Почему сидит она? Что ей нужно?
И вновь он окунается в огненный кошмар, и вырывается с криком, и падает, и открывает глаза, — наконец понимая смутно, что женщина та, рядом с ним, жена его Маугиза, успокоенно уже засыпает, спит долго, почти беспамятно. Когда приходит он в реальный, больничный, кажется, мир, Маугизы нет, у изголовья его стоит большеносый мужчина в белом халате, рокочет ненавязчиво и приятно.
Большеносый в белом берет его свободную, незапеленатую руку, сжимает ее у запястья, считает что-то по часам. Улыбается широко, во весь рот.
— Та-а-ак, так-так! Живем, голубчик, очень даже живем, кризис миновали, превосходно. Живем назло врагам, а?! С нашим-то организмом? Что нам три сломанных ребра, пустячки, батенька, пустячки!
— А что, доктор, али ребра у меня были сломаны?
— Ну, мы их заштопали, Ардуаныч, все в порядке. И ребра, и руку, а ключица вот еще поболит. Недолго, голубчик, потерпите! Ну-к, выпьем лекарство, вот так! Превосходно. Горько? Горько! Значит, превосходно.
Понемногу, с большим трудом возвращался Ардуанов к жизни. В первые дни было ему очень тяжело. Всю жизнь свою работал волжский грузчик, землекоп, бетонщик Мирсаит Ардуанов не покладая рук, привык во всем полагаться на себя лишь и зависеть от кого-либо не любил и не умел — теперь было ему стыдно есть с ложечки, стыдно не только сестер, но даже жены своей Маугизы, но делать нечего: раз уж остался ты жив, раз нужен для будущих больших и важных дел, раз спасла тебя история руками врачей рабоче-крестьянской власти, вырвала тебя из смертных пут, расставленных врагами, — должен ты жить. Да, конечно, сейчас ты лежишь, закутанный во многие слои марли и гипса, словно ребенок в кроватке, беспомощен — это с твоей-то двухметровой громадой, с силушкой твоей, когда на все округа не раз ты был батыром сабантуев; и парни из твоей бригады, пришедшие тебя проведать, были потрясены, увидев твое состояние, — дрогнули их души, а сверстник твой Бахтияр пролил безмолвно горькие мужские слезы; и ждали Шамук, Сибай, Исангул, ждали ребята, закусив губы, когда доплачет он. Им плакать было нельзя. Долго еще сидели они у твоей кровати, пока не перестали наконец видеть в тебе калеку, ущербного, пока не перестали чувствовать, замечать своего физического превосходства: привыкли, любили они видеть в тебе учителя, советчика и отца.
А когда поверили они окончательно, что можешь ты и запеленатый, подобно малому ребенку, в марлевые повязки разговаривать, смеяться, дрожа поседевшими усами, — выложили и думы свои, не тая и не скрывая.
— Мирсаит-абзый, а чего это вредители — чтоб они провалились совсем, гады! — чего они все время к нашей бригаде лезут, а?! Им чего: другого места нету, куда рыпаться? — Может, нарочно: татары, мол, вот и издеваются? — заговорил Шамук, от волнения подскакивая и глотая слова.
Поддержал Шамука, как обычно, Бахтияр-абзый:
— Вот мы, друг Мирсаит, думали тут, думали и пришли сообча к такой мысли. Ежели, мол, будет Мирсаит жив-здоров и сможет переговорить с нами, спросим всем гамузом у него совету. Вот и Сибай, и Зариф, и Каюм, да и другие тоже, все хотят до точности описать, что такое тут было, да послать, чтоб пропечатали в газете. И, аллах даст, напишем, пущай враги не радуются крепко. Пусть не похваляются, будто напугали нас до страшного. Мы не из пугливого десятка! А на их злобную попытку убить нашего Ардуанова ответим мы ударным трудом, так и порешили!
Читать дальше