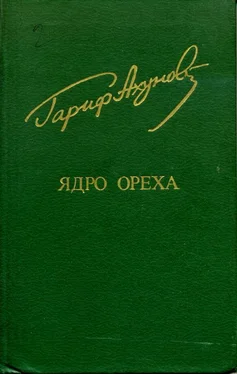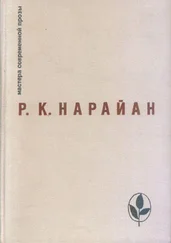Вздрогнул вдруг Сагайкин от скрипа засова тюремной, из толстого железа, двери. А вскоре распахнулась она, и грубый низкий голос приказал:
— Сагайкин, к выходу!
В сопровождении вооруженного конвоя, не оглядываясь, долго шел Сагайкин длинным полутемным коридором. По крайней мере, ему показалось, что очень долго. Потом слева открылась какая-то узкая дверь, и в глаза ему ослепляюще ударил сноп яркого безжалостного света. Когда Сагайкин открыл глаза, он увидел перед собой человека крепкого телосложения с квадратным лицом и впалыми щеками, в полувоенной гимнастерке, подпоясанной широким кожаным ремнем. Сагайкин успел также заметить, что одежда этого человека соответствует суровому выражению его лица и лишь мягкие курчавые волосы, растущие вокруг круглой лысины на непомерна большой голове, создают странное и неуместное впечатление. Именно этот контраст в облике встречающего человека показался Сагайкину очень знакомым. Мучительно перебирал он в памяти всех своих знакомых, всех, кого знал или мог знать в прошлом, но, вероятно, оттого, что встреча эта была такой тревожно-неприятною, так и не смог припомнить сурового человека.
В кабинете стояли стол, два стула и очень большой сейф. С желтоватой голой стены, рождая в душе смутную тревогу, смотрел Дзержинский. Сагайкина особенно удивил сейф. На дверце этого непомерно большого, тяжелого сейфа, сделанного на заводах Демидова, тускло бронзовело изображение двуглавого орла. Этот сейф, ожгло Сагайкина, предназначавшийся капиталистам России, служит теперь большевикам, и, возможно, именно там лежат документы, от которых зависит его судьба.
Человек в гимнастерке здороваться с Сагайкиным не спешил, садиться ему не предлагал; глазами, горящими страстно на мрачноватом лице со впалыми щеками, уставился на вошедшего, сказал резко:
— Сагайкин — это ваша собственная фамилия?
Словно прикладом ударили по голове Сагайкина — так поразил его внутренне все же ожидаемый этот вопрос. Часто глотая воздух, словно рыба, выброшенная на берег, проговорил он:
— Что... что это за издевательство, гражданин следователь? — Почувствовал сам, что голос его слаб и водянист. — Мы — потомственные Сагайкины. Дед мой всю жизнь гнул спину на заводах Демидова; сделанные его руками перстни из алтайского драгоценного агата не брезговали носить даже короли иностранных держав.
— Значит, вы из рода знаменитого мастера демидовских заводов, Дмитрия Ксенофонтовича Сагайкина?
Сагайкин вздохнул свободно и протянул к следователю мизинец левой руки: на нем посверкивал перстень с агатовым камнем.
— Вот... мое единственное богатство, оставшееся от деда Димы. Подарил мне перед самой смертью своей. Наказал на прощание: ты, сынок, как зеницу ока береги рабочую честь, смотри, не запятнай ее ничем.
Следователь вытащил из левого ящика стола большую лупу и, положив руку Сагайкина с перстнем на свою шершавую ладонь, всмотрелся в агат через увеличительное стекло. Потом, уже более мягким, певучим голосом, подтвердил:
— Правильно! Это — Дмитрия Сагайкина работа, не фальшивка. Второй экземпляр перстня хранится у нас, здесь вот, — и, вытащив из сейфа такой же перстень, показал его мнимому Сагайкину.
В груди Ксенофонта Ивановича затлела искорка надежды. Ну, правильно он сделал, черт его возьми совсем, что упомянул о перстне! Выкрутится, раз так — убей бог, выкрутится. Он просветлевшими, полными надежды на спасение глазами взглянул на сурового человека уже почти беспечно и... похолодел всем телом. По мягкому и в то же время строго-твердому, даже жесткому выражению лица его он вдруг вспомнил: Морозов! Впалые щеки, квадратное лицо, мягкие желтые волосы вокруг лысины, горящие черным антрацитовым пламенем живые глаза. Так ведь карточку именно этого человека показали ему тогда сибирские друзья, предупредили: берегись попасться в лапы Морозова; мягко стелет, да жестко укладывает. Пропал ты, Ксенофонт, и нет тебе спасения!
— Ну и как же, Ксенофонт Иванович, не запятнали вы свою рабочую совесть? Достойно носите имя прадеда — Ксенофонта?
Съежился Сагайкин, словно стеганули его по спине казачьей плеткой-девятихвосткой.
— До сих пор не случалось такого, гражданин следователь, — выдавил. Помолчал, отдышался и добавил: — Сознательно, конечно. Ну... всякое может быть в жизни человека. Если... ошибся, готов кровью смыть свою вину.
— Да-а... Ну, хорошо, Ксенофонт Иванович, если не запятнали, это хорошо... — сказал Морозов, тут же, без перехода, спросил: — У Колчака долго служили?
Читать дальше