Совсем родниковый холод потек по жилам Петра Васильевича. Не просто рассудком – всем телом, так явственно, как ощущают на себе действие внешних сил – дождя, ветра, навалившейся на плечи тяжести, – Петр Васильевич ощутил, что, хочет он или не хочет, а в судьбе его что-то случилось, она круто ломается в эти мгновения, вот у этого белого докторского стола, сломалась уже непоправимо и невозможно удержать ее от этой перемены, поворота, – о чем бы и как бы ни стал от просить доктора Виктора Валентиновича. Он сник, смирился, как-то сразу упав духом, всем существом своим, и уже покорно дал проделать с собой все, что надо было, чтобы поместить его в больничную палату: коротко отвечал на вопросы о возрасте, месте жительства и прочем, когда заполняли различные карточки, покорно сдал кастелянше свою одежду – серый прорезиненный плащ, ботинки, новый, береженый, в первый раз, потому что не выпадало для этого других подходящих случаев, надетый для поездки в больницу костюм с ярлычком польской фирмы на подкладке. Покорно искупался по указанию сердитой нянечки под тепловатым душем, покорно, безропотно облачился потом в больничную пижаму, хотя брюки оказались ему коротки, выше щиколоток, а куртка – просторной, широкой, сползающей с его худых, острых плеч…
Его поместили в старый корпус, в котором располагалась вся районная больница, пока не построили новое здание. Корпус этот – одноэтажный, длинный по фасаду бревенчатый дом с резными наличниками, множеством пристроек, сарайчиков – стоял позади нового здания в старинном парке.
Деревья его подступали к самым окнам, затеняя свет, прямые и ровные, будто гранитные колонны.
Иные из них были неохватно-толсты и все еще отменно могучи, несмотря на видимый свой возраст, вобравший не одно столетие, другие уже дряхлы, дуплисты; век их, что тоже было видно глазу, подходил уже к концу, как случилось это с теми их собратьями, от которых в парке остались только трухлявые пни.
И все-таки, даже такой, поредевший, истоптанный беспризорно забредающей скотиной, неприбранный и неухоженный по недостатку рук в больничном персонале, парк в эту пору весеннего пробуждения все равно был хорош и полон разнообразной красоты. Окружая его, вдоль вала, выкопанного еще крепостными крестьянами, густо белели кусты терновника; с восхода и до заката в них слышался непрерывный гуд пчел, нетерпеливых, сноровисто-жадных после долгой голодной зимовки. На прямоугольных куртинах, пользуясь тем, что древесная листва еще сквозиста, прозрачна и тень ее еще жидка, из земли густо лезла трава, сочная, купоросно-зеленая, пробивая коричневую труху мертвых прошлогодних листьев. В ветвях сновали птицы, облаживали гнезда, тащили веточки, соломины; свист, щелканье, цвиканье – сотни различных звуков, сливаясь воедино, ни на секунду не замолкая, наполняли нагретый, медвяно-пахучий, перламутрово-сверкающий воздух парка. Одни дубы стояли еще голые, как бы не проснувшиеся, в серой морщинистой коре, желтея сухими старыми листьями, уцелевшими кое-где на ветвях. Казалось, они совсем безразличны к теплу и солнцу, вне праздника новой жизни, медлительно ждут какого-то своего дня, часа…
Утром по палатам проходил Виктор Валентинович, смотрел больных, иногда один, иногда с другими врачами. Петру Васильевичу давали таблетки, сестра колола его шприцем, а потом до самого вечера он был свободен от процедур. Другие больные от нечего делать играли в шашки, домино, в подкидного дурака; кто мог ходить – сидел в красном уголке перед телевизором.
Петра Васильевича не влекли ни шашки, ни экран телевизора. Надев поверх пижамы халат, в больничных тапочках со стоптанными задниками, которые до него перебывали уже на многих ногах, он выходил в парк, на солнышко, одиноко садился где-нибудь на пеньке или на стволе поваленного дерева, слушал птиц, гудение пчел в терновнике и томился, томился, тосковал. Наверное, такое испытывает безвинно заключенный, которого внезапно вырвали из круга его жизни, дел, разлучили с близкими и родными, и он не знает даже срока, сколько терпеть такую отлучку и чем она кончится…
Грудь у него уже не болела, кашель стих, вероятно, благодаря таблеткам, уколам, но по-прежнему не хватало сил, и если бы Петра Васильевича попросили рассказать, что он в себе чувствует, то он сказал бы, что никакой болезни в нем нет, а только одна усталость, – словно собралась она за всю его жизнь и труд – налилась чугуном в руки и ноги; выйти за сотню шагов в парк, до пенечка, – это ему почти уже предельный, отбирающий все его силы путь.
Читать дальше




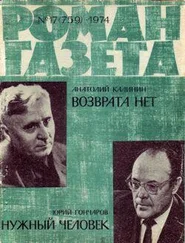





![Ким Лиггетт - Последняя жатва [litres]](/books/384770/kim-liggett-poslednyaya-zhatva-litres-thumb.webp)
