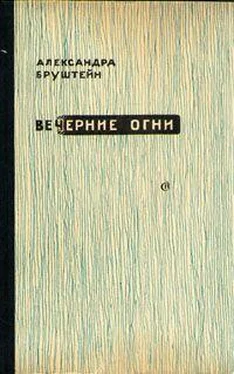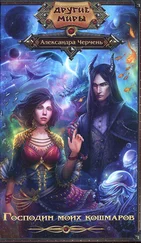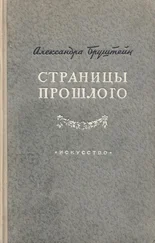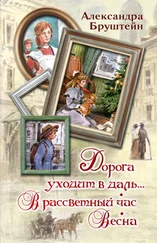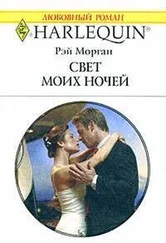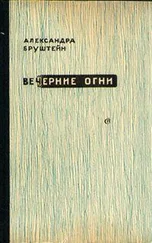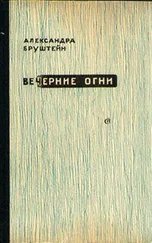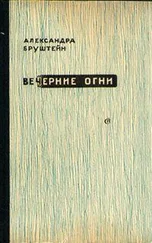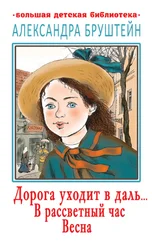Внутри института я тоже ничего не узнаю. Здания, полуразрушенные войной, теперь отстроены, очень расширены. Не нахожу того отделения, где лежала 20 лет тому назад, а казалось, пройду к нему с завязанными глазами! Хожу — смотрю, что сохранилось из старого? Что родилось нового? Разговариваю с врачами, иные знакомы мне еще по прежним приездам в Одессу. Встретила Д.Г. Бушмича, — 20 лет назад он был молодой, обещающий врач, сегодня он сдержал все обещания: профессор, известный хирург — и все еще молодой!
Одно уже ясно мне из этих первых прогулок по этажам и отделениям: институт живет. Он не просто катится, как вагонетка по инерции толчка, полученного от могучей руки В.П. Филатова. Институт осваивает новое, он дерзает и растет, он идет дальше, — значит, живет!
Хочу нащупать то место, где смерть остановила Владимира Петровича, где пришелся «стык»: вот это делал еще он сам, а вот это делают уже другие, делают после него.
Необходимо оговориться: провести эту демаркационную линию чрезвычайно трудно. Ведь все новое вырастает из старого. Сам В.П. Филатов сделал замечательные открытия и находки, осваивая опыт врачей, живших и работавших как до него, так и в его время. Теперь в основе нового, открываемого учениками Филатова, лежат его мысли, его далеко шедшие предвидения.
Одно из первых впечатлений моих двадцать лет тому назад: девочка Галя с глазами, обваренными кипятком из опрокинувшегося на нее чайника. Тогда мать привезла Галю к Филатову — и увезла ее обратно ни с чем: лечение таких ожогов было в то время еще не освоено. Другое, такое же раннее и такое же сильное мое воспоминание той поры (1940 год) — женщина, которой ревнивый негодяй выжег глаза серной кислотой. Владимир Петрович Филатов положил много кропотливых усилий на то, чтобы «сделать ей лицо» и добраться до ее заросших глаз. Когда это было достигнуто, выяснилось, что эта слепая женщина отличает свет от тьмы. У В.П. Филатова возникла тогда надежда: может быть, глубоко лежащие слои глазной роговицы сохранили хоть какую-то долю прозрачности? Может быть, можно оперативным путем добиться хоть самого минимального зрения?
Дальнейшим исследованиям и попыткам лечить эту слепую с выжженными глазами помешала Великая Отечественная война.
Сегодня, приехав снова, через двадцать лет, в институт, вспоминаю это, глядя на мальчика Кешу, привезенного из Сибири. Весной, когда выставляли зимние рамы, соседка по ошибке, думая, что в стаканчике вода, плеснула в озорного Кешку серной кислотой! Мальчик ослеп, но теперь это уже не навечно: Кешка будет видеть. Ему сделают операцию, каких прежде не делали, и он прозреет так же, как прозрели и уже видят шахтер Алексеев — ему обожгло глаза при взрыве на шахте, и доменщик Гурамия, которому брызнуло в глаза раскаленным металлом. Этих двоих прозревших я видела сегодня — и они видели меня!
Работая в этом направлении, мысль Владимира Петровича Филатова нащупывала, искала до самой его смерти. Продолжают это дело его ученики — профессор Н.А. Пучковская и другие.
Каждый день начинается с неприятного! И, как это ни странно, неприятное исходит от милейшего Юрия Викторовича, которого мы все зовем ласково просто Юрой! Он студент-медик и несет в нашем отделении ночные дежурства. Юра — прелестная личность! Но когда вы только перед рассветом задремали после бессонной ночи, набитой черными мыслями, как шапка подсолнечника — зернами, а Юра будит вас, протягивая термометр для измерения утренней температуры, — вам, конечно, хочется рычать и кусаться.
— Юра! — убеждаю я его. — Для меня вы не медсестра и не медбрат, а медвнук. Вы даже похожи на моего внука! Неужели вам нисколечко не жалко бедную бабушку? Мне бы еще хоть полчасика подремать… А?
Мое «а?» повисает в воздухе без ответа: Юра — старательный и добросовестный работник. Сбить его с этой стези невозможно. Но все-таки Юра в самом деле прелестная личность! Назавтра он сам предлагает мне:
— Я придумал: я буду приносить вам термометр в последнюю очередь… Это и выйдет — еще полчаса… Идет?
Ну конечно, идет!
Юра умиляет меня не только добросовестностью и добрым отношением к больным. Надо сказать правду: мы привыкли к тому, что у нас все учатся, и принимаем это как должное. Конечно, учатся, а как же иначе? Со времени Октябрьской революции прошло всего 43 года, — исторически это срок ничтожно малый, а между тем у нас прочно забыли, что такое, например, ликбез! Спросите, что это? Вам наскажут такого, что уши у вас завянут, как трава… Словно происходил этот ликбез не в советское время, а при Каппадокийском царе Ариобарзане Втором! Очень распространенное объяснение: ликбез — это было такое время, когда даже подростки-школьники учили неграмотных стариков и старушек читать и писать… Почему мы забываем, что царизм оставил нам в наследство армию в 100 миллионов безграмотных, — не старушек, а молодых, полных сил, здоровья людей, ставивших вместо подписи корявый крест? Ликбез был небывалое в истории культурное движение, когда в голоде, холоде, эпидемиях, разрухе, гражданской войне горсть людей обучала грамоте миллионы. Этим можно гордиться, но поскольку гордиться другими людьми умеет не всякая душа, то надо хотя бы не забывать этого! А старушек, кстати, и не учили: только людей до пятидесяти лет!
Читать дальше