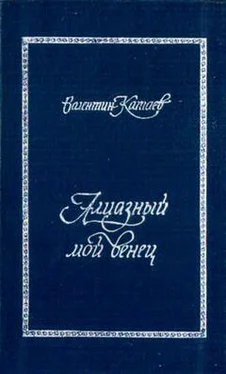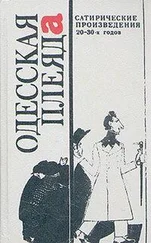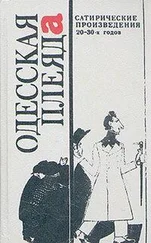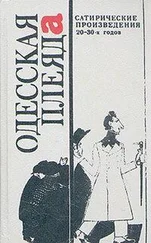Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью.
Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть:
«…и военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел слюдяной перепончатый лес… И с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил…» {267}
Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, в смертельное оцепенение, в предчувствие неизбежной мировой катастрофы…
Но нет! Тогда были не эти стихи… Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Стансы:
«Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг, — и меня срезает время, как скосило твой каблук! Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде, шелестела, кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб». {268}
Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно-отчаянных стихов.
Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, «гуляки праздного» {269}, с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка и по кругу как заводные резали лед конькобежцы с развевающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп {270}; с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала; с отчаянными письмами; с клятвами; с бессонницей и нервами, натянутыми как струны; и, наконец, с ничем не объяснимым разрывом — сжиганием пачек писем, слезами, смехом, — как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только «все или ничего» {271}.
А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же Чистых прудов с музыкой, с конькобежцами, но уже без нее — маленькой, прелестной, в теплом пальто, с детски округлым, замерзшим, как яблоко, лицом, — с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке {272}времен военного коммунизма, в узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то — кажется, на Владимирском — спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, синеглазый делал первые наброски «Белой гвардии»…
…и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки {273}, освещенные трепещущими крыльями отсветов пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки…
Как, должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика.
Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек начинает ощущать отдаленное, но уже заметное приближение старости: поредевшие волосы, не защищающие от опасного холодка, женский каблук, косо сточенный временем…
…Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель… Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить…
Щелкунчик всегда «колобродил».
Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое, и головка щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева.
Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька — густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду.
Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется лип, а может быть, тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб.
Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик».
«…он подает куда как скупо свой воробьиный холодок: немного нам, немного купам, немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье — чаинок легкая возня, как бы воздушный муравейник пирует в темных зеленях; из свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холода рассадник открылся в лапчатой Москве»… {274}
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу