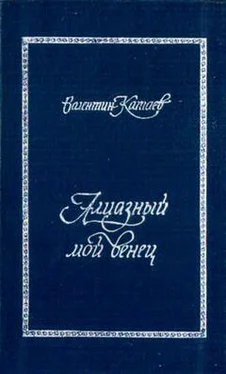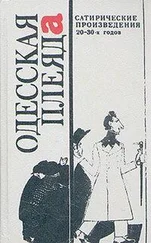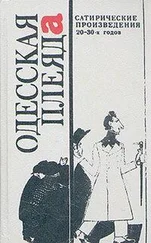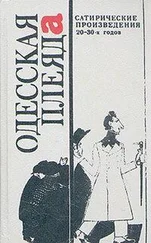Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей, тяготевших к Лефу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом общеизвестный стихотворный пасквиль. {89}
Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал: «Язык мой гол» {90}.
«Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон». {91}
Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленым камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой. {92}
Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим Левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств:
«…а почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики?» {93}
Здесь он не писал «нигде кроме, как в Моссельпроме» и «товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики», подаваемые теоретиками из Водопьяного переулка чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и ниспровержение старого, от которого «нами оставляются только папиросы „Ира“». {94}
Здесь он написал:
«…я себя под Лениным чищу».
Здесь же он поставил и точку в своем конце. {95}
И сейчас еще слышатся мне широкие, гулкие шаги Командора {96}на пустынной ночной Мясницкой между уже не существующим Водопьяным и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова {97}.
К перекрестку Мясницкая — Бульварное кольцо тяготело несколько зданий, ныне исторических.
Не говоря уже о главном Почтамте, географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от белокаменной, первопрестольной {98}, здесь находился Вхутемас, в недавнем прошлом Школа ваяния и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина {99}.
Сюда захаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами, своими сверстниками.
Здесь обитал художник Л. Пастернак {100}и рос его сын {101}, который, вспоминая свою юность, впоследствии написал:
«Мне четырнадцать лет, Вхутемас еще Школа ваянья… Звон у Флора и Лавра сливается с шарканьем ног… Раздается звонок, голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!» {102}
Помню маленькую церквушку Флора и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к ампирным колоннам полукруглого крыла Вхутемаса. Церковка эта вдруг на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода Метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. {103}
Да, еще рядом с Вхутемасом, против Почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая. {104}
…А потом уже не помню что…
…во дворе Вхутемаса, куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса. В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же в нетопленой комнате существовал как некое допотопное животное — мамонт! — великий поэт, председатель земного шара, будетлянин {105}, странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди {106}.
Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами {107}, он жил в своей запущенной комнате.
Тут же рядом гнездился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, вьюн {108}по природе, автор легендарной строчки «Дыр, бул, щир» {109}. Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн — так мы будем его называть — промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой {110}, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся {111}, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим остроносым лицом мальчика-старичка {112}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу