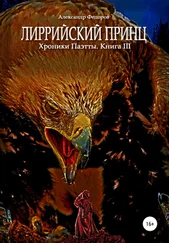– Угу! Значит, отпустили? – У Плакущева наморщился скат лба над переносицей, щетинистые брови дрогнули. – Вот и хорошо. А то ведь зря людей замазали. А кто это тебе кричал дорогой? – спросил он, чтобы отвести разговор.
– Да кто!.. Митька Спирин, шут его дери-то. Хлебом печеным торгует. Баба всю неделю пекет, а он хлеб – на базар: купец красный. Намеднись говорю ему…
– Чего кричал?
– Подсобить просил. Намеднись говорю ему: «Митька, брось этим делом займаться: с пустым мешком с базару вернешься». Нет, слышь, на прошлой неделе без малого червонец зашиб. Вот ты и гляди. Надрывается, тащит, а…
– Пускай надрывается: он кровей плохих.
– Известно, какая кровь у Спириных: сроду побираются. А этот все норовит выкарабкаться: лошаденку приобрел… у меня, положим, на землю выменял.
– Знаю.
– Да ведь она его съест с потрохами, – не унимался Никита. – Шел бы в услужение. А тут я вот вас, Илья Максимович, никак и не разберу. Зачем это вы голос за колхоз подаете?
– А что?
– Леригию они нарушают… коммунисты, – увильнул Никита.
– Колхоз – великое дело. И религию они не нарушают, коммунисты очищают ее, – в свою очередь вильнул Плакущев.
«Ряхнулся, – заключил Никита. – Значит, надо скорехонько дела-то обделывать», – и свернул с мостовой в сторону базара, обгоняя мужиков.
– Мужик – он такой: как вар. Вещество есть такое на земле, – продолжал Плакущев, говоря не Никите, а словно кому-то другому. – В руках его мнешь, вар – он мягкий, бросил обо что – расколется. Мни и бросай. Кто осилит. В какую, сторону метнешь, то и получишь.
– А-ма-а! А-ба-а, – удивлялся Никита, ничего не поняв, решив, что Плакущев совсем «ряхнулся», и соображая свое: «Мни и бросай. А я хочу твое добро к рукам прибрать. Вот вопрос».
Рысак вынес их на изволок, идя четко, не тряхнув головой, так же, как и на равнине, только чуть всхрапывая. И Никита, заметив, с какой завистью посматривают мужики на рысака, снова принялся восхищаться:
– Машина, а не лошадь. Паровоз! А ты – продать. Гляди, твоя воля. А я бы за такую лошадь жизнь на кон поставил. Пра!
– Твоя жизнь и того не стоит, – задрал его Плакущев и окинул взглядом село Полдомасово.
Село лежало на берегу реки, расхлестываясь лохматыми, в весеннем навозе, улицами – длинными и изогнутыми. С концов улицы, усыпанные маленькими хибарками, сгорбленными плетешками, казались тощими, но ближе к центру они толстели шатровыми домами, поблескивали на солнце железными, черепичными крышами, разукрашенными вензелями на окнах… И со всех сторон в центр, где на бугристой базарной площади стояла. облупленная часовенка, катили подводы крестьян.
Сколько раз Плакущев смотрел на село вот с этого же изволока, и ни разу ему не приходило на ум такое сравнение, какое пришло теперь.
Однажды, идя полем из Полдомасова, он заметил, как через дорогу' перебежал тарантул. Был он слишком крупен и рябоват. Плакущев остановился, отбросил его палочкой в сторону и удивился: с тарантула посыпались мелкие, с зернышко проса, тарантулята. Было их так много, что Плакущев, пораженный плодовитостью тарантула, принялся считать тарантулят, глядя, как они снова взбираются на тарантула – уже тощего, длинного, цвета стали. Вот и теперь село показалось ему тарантулом, а те, кто скакал, обгоняя друг друга, на базарную площадь, – тарантулятами.
«Фу… мирно врастут в социализм. Держи, – усмехнулся он, глядя то на село, то на скачущих мужиков, то на Никиту, на его рыжую бороду. – Вот Никита… его арканом не затащишь. Души, а он все шевелиться будет, к своему карману тянуть. А их вон сколько – все Никиты», – он повел взглядом на скачущих мужиков и разом почувствовал, как с него спала беспросветность и снова перед ним все ожило, заговорило, и он встряхнулся, сел поудобней, вытягиваясь так, словно ехал на смотр своих полков.
– Здрасте! Здорово! – кричал он, обгоняя мужиков, и шептал: – Тарантул жив! А этих тарантулят – как ни бей, тарантул новых народит. А они, большевики, – забывшись, заговорил он громко, – и норовят ему, тарантулу, в сердце… Вот наступит время – село убьют, сожгут избы, все перевернется. Наступит время.
– Села не будет, и нас не будет, и они подохнут, – ввязался Никита.
– Аль чего я сказал?
– А-ба-аа! Село, баишь, сожгут. И нас, стало быть, к хрену. А мы есть пуп земли. Кто кормить их будет? Газеткой ведь не наешься, а они… – Никита не закончил: они въехали в село, и в сумятице, базарной толчее ему пришлось придержать коня и, изворачиваясь, объезжать ряды торговцев.
Читать дальше







![Федор Панфёров - В стране поверженных [1-я редакция]](/books/393778/fedor-panferov-v-strane-poverzhennyh-1-ya-redakciya-thumb.webp)
![Федор Панфёров - Борьба за мир [2-я редакция]](/books/398428/fedor-panferov-borba-za-mir-2-ya-redakciya-thumb.webp)