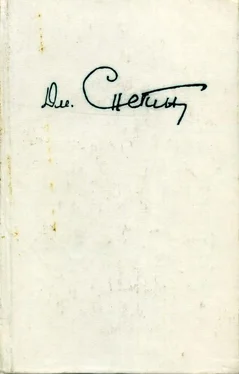— Когда будешь выдувать, не раздави яйцо.
Тезка вытирает губы рукавом ситцевой рубахи, фыркает.
— А на кой мне сдалось яйцо? Оно — твое... — И совсем по-другому, серьезно и тихо добавил: — Я просто хотел, чтобы ты преодолел страх.
Ночник под потолком казармы мигает и гаснет. И снова загорается. Фурсов вздыхает, с минуту молчит, потом мечтательно продолжает:
— Вот какой он, Короленко... Но ты не думай, я не взял яйцо, — обращается он к Кипкееву. — Я предложил собирать одну общую коллекцию... А ты коллекционировал птичьи яйца? У вас на Кавказе тоже раздолье.
Старшина не отзывается. Спит старшина, а может, притворяется. Жалко. Владимира захватили воспоминания детства и его подмывает рассказать о том, как они с другом подбили гуся на Барибаше, и Короленко погнал его в студеную воду за добычей. Тоже для закалки. И гуся отдал ему. «Ты достал, твоя и птица». Щедрый был Короленко, бескорыстный. О нем рассказывать да рассказывать! Но спит старшина. Спят бойцы-побратимы Никита Соколов, Нури Сыдыков, Болдырев. Интересный этот Болдырев. У него страсть — собирать фотокарточки друзей, своей семьи, знакомых и незнакомых людей. Спит Ефим Болдырев, спрятав под голову пакет из черной матовой бумаги, туго набитый фотографиями. Спит казарма. Неразобранной стоит одна койка — Аргамасова. На конюшне ночь коротает: опять получил наряд вне очереди.
В окно вливается неверный, приглушенный лунный свет. Спит казарма. Спит вся Брестская крепость, облитая лунным сиянием, охваченная ожиданием нового, воскресного дня. Засыпает и сержант Фурсов...
После последнего посещения лагерным начальством Южного городка, после недовольства, высказанного немцами Дулькейту, решительно все изменилось к худшему. Раненых не разрешалось перевязывать, мыть, не разрешалось убирать постели. Хирург Маховенко замкнулся. Место, где лежал Владимир Фурсов, почему-то называлось третьим отсеком. От входа самый дальний. И хотя окно было настежь открыто, воздух держался спертый, гнилой, напитанный зловониями. Те, кто приносил баланду и убирал парашу, все реже и реже рисковали сюда проникать. Баланда и параша стояли рядом.
Из всех щелей и рогожных подстилок полез клоп. Клоп не сосал кровь, клоп пожирал плоть. Одолевали блохи и вши. Но злее мухи паразита не было. Мухи облепляли раны, забивались в уши, ноздри, в рот, от них не было спасения.
Рядом с Фурсовым, на соседней койке, лежал тихий молчаливый солдат. Фурсов безуспешно пытался с ним заговорить. Солдат уже не мог дотянуться до посудины с баландой, а Фурсов не в силах был ему помочь. В одну из ночей сосед разбудил его. С украинским акцентом он повторял одно и то же:
— Я — Дружина... Игнат Дружина... Запомни, будь ласка... — Он бредил.
Фурсову без того было плохо, а тут почудилось — пришел конец. И ему, и соседу. Всем. «Я не Дружина. Я Фурсов... Фурсов... Владимир Фурсов!» Утром он с трудом открыл глаза. Над ним висело мутное облако испарений, и кто-то, похожий на Супонева, одной рукой подавал ему сквозь это облако миску с похлебкой, другой зажимал себе нос. Облако качнулось, размазалось, и Супонев пропал.
Фурсов кричал, звал на помощь, требовал отравы, но его никто не слышал: крик прикипал к гортани. В груди что-то клокотало, хрипело. К нему боялись подходить. Однажды примерещилось такое... Будто окатили его теплой водой, растерли пролежни полотенцем.
В минуты просветления он видел на том месте, где лежал Дружина, другого. Тот, другой, улыбаясь, говорил:
— Зачем отрава? Ты живи!
«Он киргиз... или казах», — силился разглядеть нового соседа Фурсов и опять проваливался в небытие. И опять — в бреду, во сне просил смерти, а сам ожесточенно продолжал единоборствовать с ней.
На пятые сутки ему стало легче. Он увидел возле себя еще не потерявшую полноты девушку с веснушчатым, обрамленным льняными кудряшками, лицом. Она показалась бы ему беспечной, если бы не пепельные тени под глазами, не преждевременно увядшие губы.
— Ну и беспокойный ты, — улыбнулась девушка. — Рыжие все такие?
На ней чистая гимнастерка, по мерке сшитая форменная юбка. Ни ран, ни метин. Фурсов еще не собрался с силами после приступа, обида захлестывает его. «Супонев нос зажимает... и ты — из чистеньких», — травит он душевную рану. И не сдерживается, кричит на девушку:
— Нас блохи заживо едят, а вы... а ты...
Девушка удивленно глядит на него. И разочарованно:
— Ты просто нюня. — И уходит.
«Сколько же мне от роду? Год, два, если я так поступаю. Когда же я научусь жить? Такой я противен и себе, и людям», — казнит себя Фурсов и слышит голос соседа:
Читать дальше