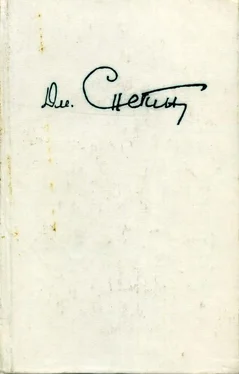— Эй, каштановый, это война.
«А мы почти все карабины сдали на склад боепитания», — ужаснулся Фурсов. Он и сам вдруг понял, ощутил всеми порами своего тела — война. И первый раз за всю службу посягнул на авторитет командира полка Дулькейта: «Сказал, что взамен карабинов получим автоматы. И не успели... остались без оружия».
— Он не имел права! Он должен был знать! — вырвалось у Фурсова помимо воли, и он не устрашился своего протеста против поступка Дулькейта, потому что все то, что творилось сейчас в казарме, казалось ему дурным сном.
Кипкеев резанул его острым взглядом.
— Отставить разговорчики... Бери ездовых и марш на конюшню! Я с огневиками — в артпарк. Одна нога здесь, другая там. Минометы к бою, понял?
— Есть! — подтянулся Фурсов.
От сердитых слов старшины все стало на место. Не как было вчера и час назад, а как оно должно быть, когда война. И, подражая командиру батареи, Фурсов буднично крикнул:
— Тревога! Минометчики, разобрать учебные винтовки и за мной!
Казарма на мгновение замерла. Потом красноармейцы начали сноровисто натягивать обмундирование. Оделся и Владимир. Лишь сапог не нашел на положенном месте. Кто-то в суматохе надел их. «Босиком не навоюешь», — резонно решил он и побежал в каптерку, — там всегда валялось много обуви, предназначенной к ремонту. Чьи-то ботинки пришлись впору, и, неумело обмотав толстые икры черными обмотками, он ринулся из казармы. Вырваться наружу, казалось ему, все равно, что вырваться из войны.
Он увидел высвеченный багровыми всполохами крепостной вал, за ним — рассветное небо. Оттуда, сквозь грохот и гарь доносился едва внятный запах отцветающих каштанов. Невдалеке что-то грохнуло. Он покачнулся. Покачнулось старинное трехэтажное здание из красного кирпича, где штаб полка, где полковая школа, где гауптвахта, заслонив ему горизонт. Но Фурсов упрямо глядел на запад. Вокруг все горело: кирпичное здание и курсанты, которые выпрыгивали из горящих окон второго этажа; горела земля, и горело небо. В небе кружились меченые черными крестами бомбардировщики и сорили, сорили бомбами, какими-то свистящими смертным свистом боронами, громыхающими бочками с зажигательной смесью. Горело все, что может и не может гореть.
— Гады... гады! — закричал он, грозя небу кулаком, и этот крик вернул ему самообладание.
Он увидел мечущихся на плацу бойцов, услышал свист и разрывы бомб, ощутил, как жарко горело здание штаба полка. Понял, не от одного огня светло. Рассвело в природе. И еще он понял, гитлеровцы развязали войну, и надо им отвечать на силу силой, на огонь огнем. Мысль заработала четко, ясно. «Собрать батарейцев — и на конюшню. Потом вывезти минометы и поставить на место, согласно боевому предписанию. А-а, хотя бы один командир объявился!»
— Ребята!.. Ездовые на конюшню! — позвал он, призывно махая руками, чтобы его увидели те, кто не услышит.
Владимиру казалось, что он непростительно нарушил приказ старшины, задержавшись здесь, у горящего штаба целую вечность. На самом деле с тех пор, как он выскочил из казармы, прошли считанные минуты. Но успел он в эти минуты пережить столько и такое, что не вместится в иные годы.
Вокруг него сгрудились красноармейцы. Их лица, их глаза говорили: Мы готовы, приказывай, что делать. «Внезапно, откуда-то из горящей мглы донесся призыв:
— Минбатарея, немцы рвутся к конюшне! За мной!
Фурсов сразу узнал лейтенанта Полторакова. И обрадовался: вот он, командир боевой, из кубанских казаков. Лейтенант бежал сквозь огонь и разрывы с шашкой наголо. Без фуражки, чуб всклокочен и подпален. Блестят зубы, мерцают белки глаз... Таким он и запомнился в стремительном беге, без фуражки, с шашкой наголо, потому что взрывной волной, сухой и горячей, Владимира сшибло с ног. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой красноармейца Никиту Соколова, чуть поодаль лежал лейтенант Полтораков *. Тонкий, длинный, с широко раскинутыми руками, будто хотел он в свой смертный час прикрыть всю крепость. В правой руке — обнаженный клинок.
«Почему я упал, я же не ранен? Э, растяпа!» — ругнул себя Фурсов и вскочил, отряхаясь от комьев земли, от пыли, от щепы. Соколов слабо застонал. Владимир помог другу подняться и увидел, тот ранен в руку. Наспех перевязал рану. Потом высвободил из еще теплой руки лейтенанта клинок, дал Никите.
— Ну, как, легче? Шагай!
Соколов не двинулся. Он смотрел в небо печальным взглядом.
Поднял голову и Владимир. Он увидел белое, в розовых бликах, небо, и в нем — в легком свободном парении — какие-то пестрые листки. Листки падали к их ногам. Это были чьи-то фотографии.
Читать дальше