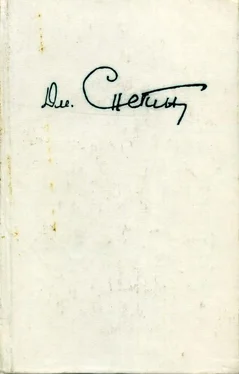В одном из писем он рассказал. «Майю Григорьевну домой мы принесли в тяжелом состоянии, без памяти. Ведь у нее было семь ранений. Очнулась она к утру от теплого молока. Надо лечить, а лечить нечем, даже бинтов нету. Тогда я начал собирать их в окопах ночью у убитых бойцов, чтобы фашисты и полицаи не видели... А на Майе все запеклось, подступиться боязно. Она сама стала подсказывать, как и что делать, и мы с мамой делали. Майя мужественно переносила все, и мне с ней было не страшно».
Было не страшно...
По возвращении в Алма-Ату я рассказал Трехсвятской о встрече с Вениамином Ивановичем, о письмах Шурика.
Она слушала, не прерывая. Слушала, чудилось мне, всем своим существом. На ее лице то обозначалась печаль, то вспыхивала радость, чтобы через мгновение смениться раздумьем и не только о пережитом. Майя Григорьевна видела больше, чем я мог рассказать; переживала воскрешенные памятью события недоступным мне переживанием, окунаясь в такие глубины, о которых не могли знать ни Шурик ни Вениамин Иванович и, естественно, не могли о них поведать другим.
Увидел я на лице Трехсвятской и какую-то открытость, обычно свидетельствующую о душевной красоте человека. Прежде она не то чтобы старалась утаить от стороннего глаза горькие страницы плена, а как бы стыдилась перед людьми за случившееся, считая себя кругом виноватой. А надо было гордиться, поскольку там продолжалась схватка с врагом, выражаясь по современному, в экстремальных условиях. То есть, она-то знала что боролась — и сама, и Искандер, и капитан Лысенко. Но кое-кто думал иначе и относился к таким, как она, по-иному. И Трехсвятская в послевоенные годы жила замкнуто, настороже. А сегодня, видел я, замкнутость и настороженность распались, и на ее лице возобладала открытость... Я прервал свой сбивчивый рассказ на полуслове. Она этого не заметила и какое-то время мы шли молча по заснеженным улицам (накануне выпал обильный снег), не узнавая родного города. Январь подбирался к зениту, а держалась предвесенняя оттепель. Город был белый, чистый, искрился под солнцем, гудел, стучал, улыбался обветренными лицами рабочих в траншеях теплоцентрали, на крыше нового универмага. Трехсвятская вдруг остановилась и сказала:
— Вы знаете о чем сейчас подумала? Люди на войне как бы повзрослели и избавились от многого дурного... научились относиться друг к другу с пониманием и терпением... стали мудрей и добрее... и представления о жизни стали более зрелыми...
Она разволновалась и надолго замолчала. Лишь у калитки своего двора призналась:
— В моей жизни случалось достаточно нескладиц. Не скажу, что то прошло бесследно. Но оно, верю, не повторится! Сегодня я все вижу новыми глазами. И счастлива оттого, что могу так видеть, как жить. В страдании. В подвиге. В радости ожидания.
* * *
Пожалуй, на этом придется прервать незавершенный рассказ. В надежде когда-нибудь прикоснуться к еще нераскрытым страницам. Добавлю лишь, что по просьбе Майи Григорьевны изменено ее имя, А все остальное — как было.
1966 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВО ИМЯ СЛАВЫ И ДОБРА
Его разбудил грохот. Грохот катился по казарме — рваный, косматый и непонятный; бился о потолок, о стены, безобразя их глубокими ветвистыми трещинами. Неслышно осыпалась штукатурка; метались в исподнем красноармейцы, похожие на призраков; высоко, под самым потолком, раскачивалась на тонком шнуре погасшая лампочка.
Красноармейцы, будто ослепнув скоротечно, натыкались на Фурсова *и едва не опрокинули его. Он встал на нары в одних трусах, рыжий и монументальный, как изваяние. Огляделся. В окно пялился июньский рассвет. В казарме — сутолока, галдеж, пыль. Он досадливо подумал: «Сплю я или не сплю?»
Грохот внезапно прекратился. Замерли и перестали галдеть бойцы. Стало слышно, как осыпается штукатурка. Чей-то, лишенный смысла и правдоподобия голос, оглушил:
— Бра-а-а-тцы, война!
«Спятил он, что ли?» — рассердился Владимир и крикнул:
— Заткнись! Землетрясение это. — В тех местах, где он родился и жил, землетрясения случались часто.
Он хотел погасить панику. Но ослепительная вспышка и грохот сильнее прежнего ворвались в казарму. Качнулись стены, качнулся потолок, вылетели стекла из окон, пошатнулись и расползлись нары. Фурсова опрокинуло на пол. Не успел он подняться, как кто-то навалился на него, и на своих руках Владимир ощутил что-то липкое, теплое. Кровь. «Кровь!» — хотел он закричать. «Кровь!» — позвать на помощь. И не успел: перед ним внезапно вырос старшина Кипкеев. При всех ремнях и регалиях. Парадная гимнастерка туго перехвачена командирским ремнем. Старшина укоризненно поцокал языком:
Читать дальше