Он попытался вообразить это, но не смог...
А Света сократила путь по овражной тропе и, задыхаясь, почти вышла из кустов, но остановилась, то ли воздуха не хватило в груди, то ли слов, чтобы окликнуть. Сержик все время дергал носом, рассопливился, и она услышала, как Федя спросил:
— Да перестанешь ты шмыгать? Или платочек дать? Надоело!
Тот замедлил шаг, шмыгнул еще раз и сказал:
— Вернись.
— Зачем?
— Света плакала, когда мы уходили... Я слышал...
— Это полезно, когда жена плачет.
— Для чего?
— Чтобы шелковая была.
— Все рассчитываешь, как электросчетчик?
— Ага. Сама прибежит. Иду в пари? Не сегодня, так завтра и прибежит, а я пока отдохну от этой кокарды.
— Давай пойдем назад, Федь, а?
— Могу вернуться только за розами.
— Денег жалко?
— Нет, Пузо, усилий! С утра гонял на рынок, к абрекам... Ты же знаешь — напрасные усилия — не мое дело.
— Да ты хоть слово скажи про Свету! «Я», «мое»... Что будет, если она возьмет и не прибежит?
— Я не футуролог, а реалист. Сообража? Возможны варианты:
— Сообража, — ответил Сержик И остановился. — Ты — падла.
Он едва выдавил из себя это слово, и Света видела, как Федя прислонил ладонь к уху.
— Что, что?
— Пад-ла! — повторил его дружок.
— За что же ты меня так? — простодушно взмолился Федя.
— За все! — крикнул Сержик и тут же получил удар в зубы. Света чуть не бросилась из кустов на выручку, но лишь вздрогнула, испугалась, а Федя сочувственно спросил:
— Дождался?
— Тьфу! — сплюнул Сержик. — Это я на тебя плюю!
И еще получил удар, после чего пришлось сплюнуть зуб.
— Учись жить, — посоветовал Федя.
— А я чего делаю? Учусь...
И еще был смех, тонкий и меленький. Смеялся Федя, уходя, а Сержик плелся за ним, отплевываясь...
А Виктор Степанович сидел, откинув голову. Снова было тоскливо и одиноко, как и раньше, да не с такой силой. А сейчас — до пустоты! И держала пугающая пустота так цепко, что из нее, казалось, уже не вырваться. Чем она держала? Безрукая, бессловесная, бесчувственная...
И вот как странно! Чтобы отделаться от этого тяжелого ощущения, полного немыслимой покинутости, и не просто печали, а боли, без всякого воображения ощутимой в душе, он стал вспоминать войну. Да, из этих благостных, из этих чудесных дней мирной жизни его отшвырнуло в то уже далекое время, которое пролегло поперек юности гремящей полосой и постоянной угрозой расправиться с тобой. Все это не забывалось, но сознание хитро не давало событиям никаких общих оценок, оно рисовало, как ты лежал на дне оврага, может быть, последним взглядом прощаясь с голубым небом и белым облаком, откупающимся от ветра потерянными курчавинами, а по склону с разных сторон к тебе бежали знакомые и незнакомые, чтобы спасти. Как водитель полуторки в считанные минуты, оставшиеся в твоем владении, спешил домчаться до госпиталя, но внезапно притормаживал и каждым колесом по очереди переползал через ухабы... Как хирург без промедления надевал халат с пятнами вчерашней или позавчерашней крови, которую ни выкипятить, ни выстирать, и еще находил миг для полушутки: «Гляди-ка! Овраг спас! А то отшибло бы все нутро, начиная с сердца!»
Нет, не овраг, а друзья спасли. Не было вокруг чужих... Он подумал об этом и очнулся, потому что услышал, как гулко; в самые уши, лупит сердце. Еще чего не хватало! Сердце в ушах — это новость. Даже и себя спрашивать не хочется, что это такое... Он глянул на часы. Вот-вот дочь должна вернуться. «Встать, рядовой такой-то!» Он нащупал под стулом снятые из-за ноги ботинки, натянул их и вышел, чтобы встретить гостей и все начать сначала.
Дочь сидела на крыльце, подперев обоими кулаками подбородок.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
— Сижу, — улыбнулась Света.
Все, что она любила, она нашла здесь. Вдоль берега зеленели сосны. Это не совсем точно — зеленели. Они были скорее голубыми в ясном воздухе, когда на небе ни облачка, а небо такое просторное, что начинаешь ощущать, насколько же оно больше и неоглядней всей земли. Тем более что всей земли и не видно, она ограничена с одной стороны песчаными дюнами, за которыми шелестело море; и этот шелест день и ночь напоминал, что земли там обрывалась, исчезая под волнами; с другой — зубчатой полоской леса за шоссе; с третьей — домами и строениями рыбацкого поселка, старыми, об этом говорило не только то, что они были деревянные, но и то, как дерево потемнело от времени, будто его закоптили годы. Годы, которых столько сгорело на ее глазах незримо...
Читать дальше
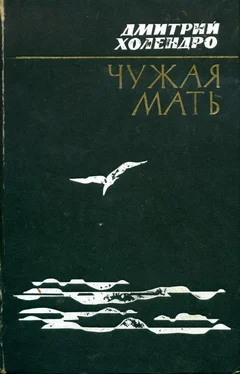


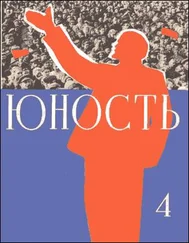


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)


![Дмитрий Холендро - В Крыму [Из записок военного корреспондента]](/books/418377/dmitrij-holendro-v-krymu-iz-zapisok-voennogo-korr-thumb.webp)
