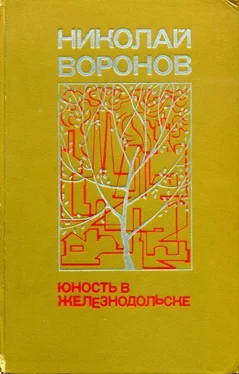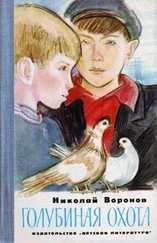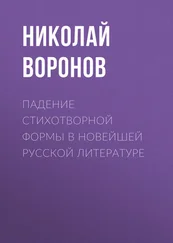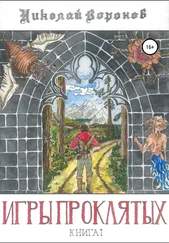Коняткин нагнулся, собравшись положить лозу обратно на козлы, но передумал и мотнул всклокоченной шевелюрой, приглашая Вячеслава последовать за ним.
Они прошли в сени, поднялись оттуда на чердак сарая.
Кроме лозы, приносимой охапками и перевязываемой лыком, Коняткины запаслись к зиме всякой всячиной: вениками из березовых веток, шишками хмеля («Бражку будем варить»), гроздьями сушеной калины («Мой дед, Павел Тарасыч, по-деревенски Паша Белый, для укрепления сердца заваривает»), кленовыми баклушами, снопами можжевельника, берестой.
— Наше крыло, Коняткины, испокон веку занимается рукомеслом. Все мы — лошкари да игрушечники. В последние годы, правда, разброд получился. Отец корзинки плетет. Сегодня на его инвалидском драндулете ездили по лозняк. Самая пора лозняк рубить. Подкорье водянистое. Легко идет раздежка. Дед режет фигурки, барельефы, палки. Летом больше широкополые шляпы плетет. Как рожь начнет наливать зерно, трубка у нее еще с зеленцой. Дай пожелтеть, ломкая станет. До армии я ударял по части бересты. Туеса и пестерки делал, роевни.
Пока спускались по лестнице, Вячеслав спросил Коняткина, остановил ли он выбор на определенной работе. До армии Коняткин успел поработать на дизеле мотористом, слесарем, в механической мастерской, бортничал неподалеку, в горах, там же последнее лето рубил башкирам дома. В госпитале, где он и Вячеслав находились долго на излечении, Коняткин и рассказал ему о своих работах.
Коняткин ухмыльнулся:
— Какой выбор? У меня небывалая должность: пахарь-стекольщик.
— Балуешься?
— Болото, деревни не знаешь. Где требуется рабсила, там и ломлю. Славка, кто это с тобой?
— Муж сестры. Леонид. Друг и наставник.
— Учусь, у кого нахожу необходимым, наставников — побоку. Больно много охотников душу захомутать, в оглобли запятить, вожжами править, кнутом заворачивать.
Леонид смотрел, как в небе вращалась свиристливая ласточиная карусель.
Они подошли к Леониду, но он продолжал наблюдать за ласточками, сбивающимися в стаю, потом, как будто не замечая их присутствия, подался с задранной головой к плетню, где Коняткин только что занимался раздежкои лозы.
— Придуривается, — шепнул Вячеслав Коняткину. Коняткин ответил веселым подмигиванием: дескать, ему занятно поведение Леонида.
Налетев на плетень, Леонид чертыхнулся, словно на самом деле брел за стаей ласточек на зрительной привязи. Едва Вячеслав познакомил его с другом, он обратился к Коняткину:
— Товарищ крестьянин, почему, скажите, ласточки, возвернувшись по весне из гостей, не селятся в старое гнездо, а лепят рядом новое?
— Пыль за зиму насыпается с балки. Отсыреет. Микробы заведутся.
— Поважней есть постановка проблемы.
— Ого!
— Монтажное и штукатурное дело боятся забыть. С нашего комбината футболисты, пока летают по областям да республикам, от профессии отстают. Мудры ласточки!
— Зятек у тебя шалун.
— Больше ко мне подходит «колун». Любой вопрос ставлю в вертикальное положение и... р-рыз, в сердцевину, вопрос пополам и — нате вам готовый ответец, ибо я не слонялся в аспирантурах.
— Слава, зятек у тебя скромник.
— Но не скоромник.
— Где там! У вас на носу написано, что по части женщин...
— Дядь Лень, Коняткин сел на своего любимого конька.
— С конька я давно слез и пересел на танк-ракетоносец. И не слезу. Эх, Славка, что может быть лучше женщин?! Разве только художество.
— Товарищ Коняткин, теперь я знаю, кто Вячеслава изурочил. На первом месте у него были общественные заботы, на втором — политика, на третьем — родители, на четвертом знания... Девчонки были где-то на двадцатом. Чего ты натворил, злыдень?
— Товарищ гость, для меня сейчас на первом плане забота о рождаемости. Я читал книжку о миграции населения. Автор книги цифры приводит... Население нашей страны, ну, доля наша к населению мира в тридцатом году составляла около девяти процентов, а в шестьдесят пятом уже около семи. Теперь у нас приплод единица, а во всем мире — два. О приплоде у нас в России я уже не говорю. Приплод от деревни сильней всего был, сейчас снизился. Население деревни убыло, постарело. От городов, крупных особенно, от Москвы, много не возьмешь: рождаемость малая.
— Пробивайся в столицу. Развернешься. Мощный приплод устроишь.
— Дядя Лень, он серьезно?
— Ладно, ерничаю.
— Меня в столицу, хоть она и светоч социализма, с помощью тягачей не утащишь. В городах верхушками легких дышу. Не воздух — газовая камера. Прошлой весной ездил в Москву на медицинскую комиссию. Подарок родственникам от майора Пуркаева привез. Окраина, Юго-Запад, мало еще зданий, а земля, верней, ледяная корка на ней голимый бензин, или, как бы сказал мой дед Паша Белый, один нефтепродукт. У себя в Слегове во всю грудь дышу. Овощи ем без ядов. Молоко пью без всяких химий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу