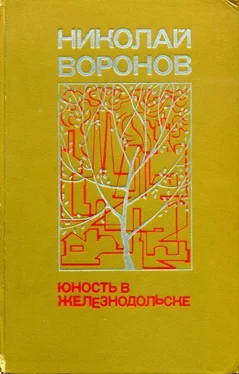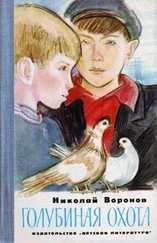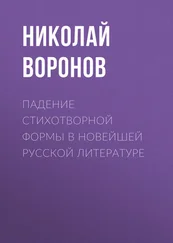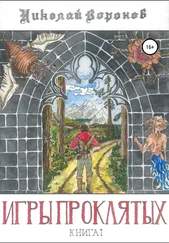Слезая с хоппера, я потерял из виду охранника.
Взбугрения лежали в три волны; в дальней впадине между ними встретился охранник. Оторопело я узнал его — Харисов. Он волочил Елин мешок возле сапога. Он тащился, как во сне, хрипло дыша, и меня не заметил. Мы разминулись. Я было надумал отдать Лене-Еле свой кокс, но вдруг резко повернул и с разбегу ударил Харисова головой. Он рухнул. Я вырвал мешок и трусцой побежал по впадине.
Лена-Еля спускалась в котловину. Плакала. Обрадовалась, что я выручил ее мешок; я увидел даже в темноте, как она просияла. Но через мгновение снова заплакала, с подвывом. Не могла простить охраннику, что увязался не за кем-нибудь, а за ней. Были большие дядьки, парни были, а увязался за ней, за маленькой.
Когда долго так вот обидчиво-чисто плачут, я почему-то начинаю улыбаться. Неловко, стыдно — и ничего не могу поделать, будто я сошел с ума и совсем неподвластен сам себе. Но когда я улыбаюсь слезам человека, в это время он становится мне очень дорогим, и я понимаю, что начинаю его любить.
Перед тем как всходить на лестницу, я остановился отдохнуть и поставил на ступеньку мешки. И тут меня прихватила улыбка. Я боялся, что Лена-Еля рассердится и обзовет меня идиотом, но унять улыбку не мог. И упорно росла во мне нежность. Я не выдержал, прикоснулся пальцами к ее мокрым щекам и внезапно поцеловал в напухшие от плача губы. Она оттолкнула меня и обиженно сказала:
— Чего целуешься?
То, что впервые открывается нам в жизни, почти всегда кажется прекрасным.
Вот ночи...
Я карапуз четырех лет. С отцом на рыбалке. С нами учитель Пушкарев. Отец любит пироги из сомятины, Пушкарев никакой рыбы не ест. Пушкарев и охотник, но дичи и зайчатины тоже в рот не берет.
Пушкарев и отец поставили закидушки. На крючках жареные воробьи. Концы шнуров привязали за макушки тальников. К шнурам привесили бронзовые колокольчики.
Тучи. Жужжа, горит костер. Вокруг ничего не разглядеть, кроме вихрастых ракит по реке да, если приложить щеку к земле и смотреть понизу в степь, рощи тополей около далекого озерка. Темнота —как вода. Мы будто на самом дне. Встань, подпрыгни — всплывешь к звездам.
Клюнет темноту звук колокольчика — Пушкарев и отец вытянут шеи, как журавли в осоке, и побегут осторожной трусцой к тальникам.
Время от времени дотягивается до меня из малолетства звон бронзовых, крупитчато-шершавых изнутри колокольчиков, и повторяется во мне та ночь с чернотой берега, с шаровидной над степью рощей, с водной плотью темноты. У всякого человека есть своя пора, когда впервые в него как бы вдохнется ночь и он ощутит ее красоту, необычайность, угрозу, вещественность... Потом будут новые ночи, западающие в душу, но они редко будут пролегать через всю жизнь.
Другая такая ночь выпала мне накануне проводов на фронт Кости Кукурузина и Вадьки Мельчаева.
Газовщик Кортуненков, в ученики к которому я был приставлен, не склонен был пояснять, что, почему и зачем он делает на коксовых печах:
— Виси у меня на хвосте, зырь, доходи сам. Вопросы в крайности. Уважаю самостоятельных.
У Кортуненкова было брюзгливое выражение лица, но в обращении к товарищам он не выказывал презрительности. Ни у кого из тех, кто с ним работал, не создавалось впечатления, что он живет, чуждаясь совместных забот и тревог. Напротив, большинство думало, что он гораздо ответственней, чем они, поглощен этими заботами и тревогами. Правда, по отдельности почти каждый считал Кортуненкова недоброжелательным, скупым мужиком, но когда судачили о нем в душевой, то получалось, что за любого он не однажды замолвил доброе слово и каждый брал у него взаймы, не всегда отдавал в обещанный срок, и Кортуненков ждал без укора и нетерпения.
Я догадывался, что Кортуненкова не беспокоит, справедливо о нем судят или нет, зато я видел, как этот з а п е ч а т а н н ы й, по мнению коксовиков, человек страдал, если кого-то оболгали или неверно поняли.
В бараке я привык к понятным людям, хотя и подозревал, что некоторые из них, особенно Кукурузины и Авдей Брусникин, гораздо сложней, чем открывают себя; соприкосновение с Кортуненковым ввергало меня в опаску и подозрение. Что-то плохое он, наверно, когда-то сделал. Может, служил у белых? Или из кулаков? А то и наводчик воровской банды. Иногда мимолетом наступало прозрение: просто характер порченый. Ломала судьба через колено. Да и вообще, говаривала бабушка Лукерья, «так простирала его жизнь, так выжала, что до сих пор он никак не расправится...».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу