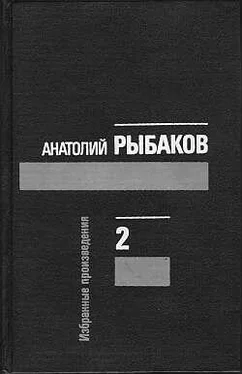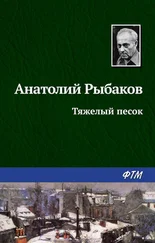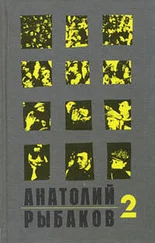– Я рада, что все выяснилось, – сказала Лиля, – по правде говоря, я беспокоилась за тебя.
– И напрасно.
Она задумчиво проговорила:
– Ты никогда ничего не боялся, я всегда завидовала тебе. Наверное, смелым надо родиться.
– Для этого надо только верить.
– Да, конечно, – тихо проговорила она.
– Люди часто ошибаются, – сказал Миронов, – но мудрость не в том, чтобы не совершать ошибок, а в том, чтобы их не повторять.
Она встревоженно посмотрела на него:
– Что ты имеешь в виду?
– Все то, что было, и то, что мы сейчас переживаем.
– Да, ты прав, и я рада за тебя.
– За меня?
– Я, наверно, не смогу тебе объяснить. Но когда я читала это, я думала о тебе. Ведь это не для Коршунова и не для Ангелюка. Это для тебя.
– А для тебя?
Она улыбнулась:
– И для меня, конечно... Вернее, для моего положения, что ли...
В цех торопливо вошла Антонина Васильевна, сменный инженер, узнала, что Миронов у аппаратов. Она была в такой же защитной куртке, что и рабочие, молодая женщина, одних лет с Лилей. И все же Лиля выглядела свежее и моложе.
– Вот тебе и невеста, – вполголоса проговорила Лиля, – красивая, образованная. Пары заклепок, правда, в голове не хватает, свои добавишь.
Миронов пошел с Антониной Васильевной вдоль колонн, останавливаясь и выслушивая, что она ему говорила. А Лиля смотрела ему вслед. В дверях Миронов обернулся и улыбнулся ей.
Вечером Миронов поехал к отцу в больницу. В больницу отец ложился два, а то и три раза в год. Полежит, выпишется, заскучает – и снова отправляется к «Абрамычу», как говорили на заводе про тех, кто лежал в заводской больнице.
– Хорошо тебе, видно, там живется, – смеялся Миронов.
– Надо подлечиться малость, – отвечал отец и отправлялся в больницу, как в родной дом, знал, чего надо брать с собой, чего не брать и когда явиться, чтобы получить койку в хорошей палате.
Миронов как-то отправил его в Ялту. Но старик не пробыл там и половины срока, вернулся и лег к Абрамычу. Их была там целая компания старых слесарей и аппаратчиков. Болезнь не позволяла им посещать завод, и потому от его дел они держались несколько отстраненно, играли в шашки, обсуждали новый закон о пенсиях, спорили о культе личности. Отец воспринимал как собственную победу каждое новое постановление правительства, будь то увеличение женщинам отпуска по беременности или учреждение Ленинских премий.
В накинутом на плечи халате Миронов сидел у его постели, слушал рассуждения старика.
– Еще долго придется распахивать, – говорил отец, – молодым надо объяснять, чтобы поняли, чтобы ценили...
Он был рабочий человек, уважал всякое настоящее дело, и если гордился сыном, то потому, что сын знал свое дело хорошо. Но на людях своей гордости не показывал.
Миронов любил отца, жалел его, видел – ему тяжело быть не у дела, оттого и ищет дело в своей болезни. И он чувствовал себя виноватым за то, что он молод и здоров, а отец стар и немощен.
Приезжая в больницу, Миронов заходил к доктору Чернину, который был ему приятелем еще с войны. Зашел он к нему и в этот раз.
Доктор был свободен, и они уселись поболтать во дворе больницы, на скамеечке возле жилого флигеля, опутанного зелеными ветками дикого винограда. Флигель был кирпичный, одноэтажный, своим видом повторял больницу, и на его окнах играли такие же оранжевые блики заката.
Санитарки складывали на машину громадные узлы – отправляли белье в стирку. Их поторапливал завхоз – суетливый старик в кителе, синих галифе и хромовых сапогах.
Два стриженых парня в пижамах, свесившись из окна палаты, заигрывали с санитарками.
– Курносая, а курносая, ноги промочишь, – говорил тот, что побойчее.
А второй, поглядывая на Чернина, улыбался, точно извиняясь за развязность своего товарища.
Чернин видел и не видел их. Все правильно... Никому это не во вред, только на пользу.
Когда дивизия, в которой служили Миронов и Чернин, наступала на Гомель, они оба, Миронов и Чернин, остановились у противотанкового рва, где были закопаны расстрелянные немцами евреи и среди них жена, мать и двое детей Чернина. Невысокий бугор извивался по полю, упираясь одним концом в лес, другим в берег реки. Длина его была двести сорок четыре метра – ровно столько, сколько нужно, чтобы закопать одну тысячу восемьсот семьдесят два человека, уложенных один на другого в шесть рядов. На дно лег первый ряд людей – их расстреляли из автоматов. На первый ряд лег второй, их тоже расстреляли из автоматов. Потом расстреляли из автоматов третий ряд. После третьего – четвертый, после четвертого – пятый. Так расстреляли шесть рядов по триста двенадцать человек в каждом. Ровно одна тысяча восемьсот семьдесят два человека, полученных под расписку начальником зондеркоманды от коменданта гетто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу