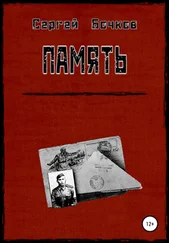Годы жизни в доме деда, до отъезда под Ленинград, в памяти отложились так, словно я прожил там одно долгое жаркое лето, спокойно-тягучее от тихой провинциальной дремоты города.
Даже первомайская демонстрация, смотреть которую я ходил с дедом, вспоминается скучной: по широкой и пыльной площади, а точнее — по утоптанному пустырю с невысокой, сбитой из досок трибуной, прошел рысью эскадрон кавалеристов, за ним четыре лошади в упряжке попарно провезли серую от пыли пушку, подпрыгивавшую на ухабах, потом, когда пыль осела, с соседней улицы к трибуне вытекли жиденькие колонны людей.
И это в праздник... А в будни улицы города были пустынными, по ним никто никуда не торопился.
За мной тогда чаще всего приглядывала Аля, водила по тенистым от тополей улицам к школьным подругам, в городской сад, на речку; помню, ехали мы куда-то в трамвае: он шел по городу медленно, сильно скрежетал на поворотах колесами, долго стоял на остановках, точно водитель ждал тех, кто еще не собрался, не уложил вещи, и обе кондукторши выходили из вагонов, грызли, пересмеиваясь, семечки, а Аля успевала сбегать за угол и купить у заскучавшей лоточницы мороженое в круглых вафлях.
Если я оставался дома, то в комнатах или в прихожей постоянно натыкался на сына бабушки Ани Юрия. Он окончил десять классов и готовился поступать в институт, но занимался вяло и постоянно страдал от жары: полежит в одних трусах на диване, комом сбив под головой подушку, порывисто, с сердитым шуршанием полистает книгу, но скоро отложит ее, сядет на диване, поерошит волосы, задумчиво пошевелит пальцами босых ног и зашлепает к умывальнику — открутит до упора медный краник, подождет, пока струя воды охладится, и сунет под нее лицо — одной щекой, потом другой, — поиграет со струей воды губами... К дивану он возвращался мокрый, со стекавшими по груди и животу струйками воды. Случалось, видимо, что заниматься ему и вообще надоедало до одури. Тогда Юрий швырял книгу на пол и уходил в самую глубину двора, на скамью под сирень — сидел там с отрешенным видом, отрезал от куста сирени ветки и мелко их стругал. Я опускался рядом на корточки и зачарованно смотрел, как он стругает: отрежет от куста ветку, проведет по ней острым лезвием ножа, и тонкая, похожая на влажные ремешки сыроватая кора завьется, обнажая белую, сочащуюся каплями сока древесину, — ветка заострялась, истончалась, сходила на нет... Он отрезал новую, витые стружки падали и падали на землю, копились у его ног.
Постругав вот так ветки, Юрий вдруг с силой вонзал лезвие ножа в сиденье скамьи, наклонялся ко мне и шептал в самое ухо:
— Бежим на речку.
Чтобы из окна нас не увидела бабушка Аня, мы кустарником продирались к забору. Юрий легко перепрыгивал через него, потом переносил и меня на улицу, ухватив под мышки.
Вечером бабушка Аня на весь дом ругала Юрия за лень и ходила по комнатам так, точно на всех сердилась.
К ужину сходилась вся семья. В кабине запыленного грузовика откуда-то из-за города приезжал дед, сильно хлопал дребезжащей дверцей машины, махал на прощанье шоферу и таким же загорелым, как сам, парням, сидевшим в кузове; грузовик катил дальше, в кузове его тарахтели какие-то треноги, рейки, похожие на длиннющие, выше человека, линейки, а дед спокойно, размеренно пересекал двор.
Почти вслед за дедом из райкома комсомола, где она работала, возвращалась мать, и я бежал встречать ее к калитке.
Отец приезжал на легковой машине. Она мягко тормозила, но спустя секунду уже неслась дальше.
За столом все сидели на обычных стульях, а дед — во главе его — почему-то на табуретке; по-моему, остальных это немного смущало и сковывало, потому что во время еды все держались очень уж прямо, стараясь не облокачиваться и не наваливаться на спинки стульев.
Вечерами он и читал на этой же табуретке: я не помню деда сидящим в кресле или на диване. А спал он на узкой железной кровати с тремя широкими досками вместо сетки, на которые был положен ватный тонкий матрас.
Дед казался мне тогда самым главным человеком в доме. Этому впечатлению способствовало все: удивительно несгибаемая, поражавшая прямота, то, что бабушка перед ним первым ставила тарелку, и то, что даже Юрий к столу выходил причесанным, в рубашке и брюках, но особенно постоянные расспросы деда взрослыми; в этих расспросах всегда звучало какое-то округлое слово: «Стройка». Слушали деда с напряженным вниманием: походило, что там, за стенами дома, дед занимается самым важным, самым значительным делом.
Читать дальше
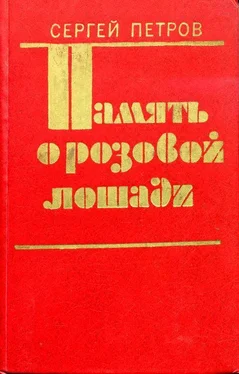
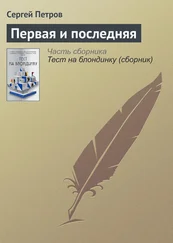





![Сергей Смирнов - Память до востребования [Фантастические рассказы и повесть]](/books/394213/sergej-smirnov-pamyat-do-vostrebovaniya-fantastiche-thumb.webp)
![Сергей Вольф - Отойди от моей лошади [Рассказы]](/books/419841/sergej-volf-otojdi-ot-moej-loshadi-rasskazy-thumb.webp)