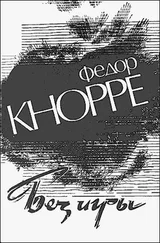Длинная серебряная спортивная машина покорно ползла за телегой, запряженной двумя коровами, скрипела ручная тележка, за которой шли дети и, понуро опустив голову, тащились собаки; повизгивала детская коляска, вся перекосившаяся от тяжести поклажи, между двух грузовиков, а по обочине гуськом шагали люди, придавленные раздувшимися рюкзаками.
Все это появлялось из-за заворота, с медлительностью безнадежности двигалось, протекало мимо и уходило в глубокую тень, за поворот дороги. Бессмысленное, безвольное общее поточное движение никуда.
— Милосердный боже, — сказал Рено (кроме лагерного номера у него была еще только эта кличка по заводу, где его схватило гестапо). — Боже милосердный, — повторил он печально и торжественно. — Мы, солдаты Франции, ревели, как сопливые мальчишки, от стыда и бешенства, когда на наших глазах по всем дорогам половина Франции вот так уходила от немцев… И вот я дожил — немцы бегут на запад. Как я мечтал дожить до этого дня, и вот в душе у меня ни капли радости. Точно все это какой-то великий обман. Ведь это совсем не те люди бегут.
— Те самые, — сказал Удо.
— Может быть, есть и те самые. Нет, тех, кто мне нужен, тут нет. Тех, из гестапо, тут нет. Всех тех, кто не станет волочить мешки на ручной тележке. Я гляжу и говорю себе: радуйся, вот оно, возмездие, — и чувствуют обман. Одни совершают преступление, а месть рушится на головы других, вот в чем дело.
— Пойди поцелуйся с ними! — разобрав, в чем дело, сказал русский.
— Достань-ка мне парочку ручных гранат и увидишь, как я умею с ними целоваться.
— Надо переходить, а не болтать. Как нам через дорогу перейти?
— Может быть, лучше вон там, на самом завороте?
Русский сказал:
— Правильно! На завороте.
Они пробрались по кустам, дошли до поворота и медленным спокойным шагом втиснулись в общий поток движения, между длинной парной повозкой и громозким автофургоном — дезинфекционной камерой.
В общей замедленной сутолоке они понемногу перебрались на левую сторону и за поворотом, не оглядываясь, даже головы не поднимая, шаркая по-лагерному ногами, стали уходить.
Их, конечно, видели, от их полосатых курток даже сторонились, когда они цепочкой переходили дорогу, понемногу приближаясь к краю. На них мельком с удивлением оглядывались, наверное ища конвоиров, но не останавливались, проходили мимо, боясь отстать и потерять свое место в общем потоке.
Солдаты мотопехоты в железной машине, с автоматами, в полном порядке сидевшие лицом друг к другу в два ряда, проводили их глазами, когда они уже пересекли дорогу. Они-то уж могли прекрасно разглядеть эту полосатую четверку, понуро шаркающую, заложив руки за спину, медленной походкой скованных общей цепью рабов. Конвоиров не было видно, но солдаты не удивились, тут все было в порядке, сразу видно. Эти лагерники идут не своей волей: их ведут. Не нужно было разыскивать глазами конвоиров. Слишком знакомая картина. Ясно было, что конвой тут есть. Он где-то на своем месте… К тому же в машине были не эсэсовцы какие-нибудь, наверное простые фронтовые солдаты мотопехоты, отупевшие в беспросветных, бесконечных отступлениях…
Потом еще несколько раз они пробовали опять побежать. Очень медленно, спотыкаясь и падая. Хуже всего было то, что чаще всех от слабости падал именно Удо, который должен был показывать дорогу. Тогда, выбравшись на просеку, они взялись все за руки, как дети, и опять затрусили мелкими шажками, поддерживая друг друга, то и дело падая все вместе. И тут они услыхали собаку. Коротко взлаивая, она шла по следу. Очень быстро шла, как будто им наперерез. Они остановились, прислушиваясь.
Удо, еще тяжело дыша, закинул за плечо руку, залез к себе за ворот куртки и вытащил через голову веревочную петлю, висевшую на шее. На конце петли, у него на груди, был привязан пистолет.
— Это мне дай, — сказал русский.
— Почему тебе?
— Я хорошо стреляю. Офицер. Понял?
Ему отдали пистолет, он проверил обойму, прислонился спиной к стволу дерева и поднял пистолет. Все смотрели на опушку просеки — слышно было, что собака быстро идет, вот-вот может выскочить на открытое место.
Русский подвинулся, встал поудобнее так, что плечом оперся о ветку, и все равно видно было, что рука у него дрожит. Он шире расставил ноги и поднял пистолет обеими руками.
Лагерная овчарка выскользнула из кустов, молча промчалась через просеку, взвизгнула и прилегла. Тогда они сквозь ветки, невдалеке за деревьями, разглядели человека в белой рубашке. «О, дурак проклятый!» — не сдержав досады, крикнул человек и злобно дернул собаку за обрывок ремня. Собака с радостной готовностью вскочила, он ударил ее кулаком по голове и свистящим шепотом скомандовал: «Лежать».
Читать дальше