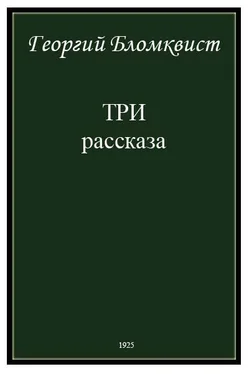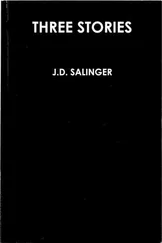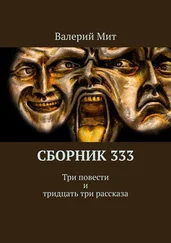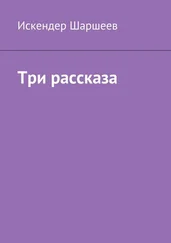Перелистнул несколько листов и вывел: «О красоте жизни и человечества». Такое заглавие. А после:
«Верую и исповедую красоту жизни и человечества. Габриэль д'Аннунцио, далекий друг мой! У него четырнадцать тысяч галстухов и бантов, разного калибра, всех оттенков и цветов. В соответствии с природой. Галстухи — многочисленные чувства Габриэля по поводу красоты природы и человечества. Впрочем, есть у него галстухи и с мрачным настроением.
Книга прячется в шкафу. Надо понять книгу. Галстух как птица. Светские люди видят галстух Габриэля — на балу, предположим. Так познают природу. Потому что: синее небо — синий атласный бант; созревающий виноград — бант светло-зеленый, — цвета прозрачной виноградины какого-нибудь бакалейного сорта. Галстухи хранятся в восемнадцати гардеробах палисандрового дерева, в башне над морем. Вот если бы открыть все гардеробы настеж и солнце от залива. Краски! Тона! Габриэль д'Аннунцио придумал красоту человеческой жизни. Вот как это, например, происходит:
Габриэль д'Аннунцио встает.
— Послушайте, Джузеппе! — говорит он лакею, — какое сегодня утро?
— Ветер. Небо светлоголубое! — отвечает Джузеппе.
— А где солнце?
— Солнце восходит, синьор. Вершины Монтаньи-дель-Митезе еще золотые как 10 лир на мраморе.
— Дай мне бант бургундского бархата N 116, - велит д'Аннунцио и выходит в розовом галстухе на балкон встречать солнце…
Так жизнь Габриэля направляется природой».
К Щурову постучали в стекло, так что оно забулькало в раме и с крыльца. Щуров, внезапно окруженный бесчисленными как воробьи стуками, отложил перо и слушал.
Иван Федорович, страшненько мне, — сказала Олька, — немцы от коменданта своего пришли. Пускать? Бриты и высоки, як водокачалки…
— Отворяй! — равнодушно сказал Щуров. Габриэлевой красоты счастье пело в нем. Охватил он Ольку, крепкий широкий стан ее и целовать стал — в брови, в губы.
— Конец! — молвил он. — Ты мое сбережешь, а? Коли застрелят, бери и живи. Экая ты красавица, Олька!
— Иван Федорович, ой боженьки! Прыгайте же вы в садок, в куренечке сховаетесь. Не хочу я открывать. Ой боюсь за вас.
В дверь уже наддавали прикладами и ругались по-своему.
— Нет, не выгорит, — ответил Щуров, — открой лучше, может обойдется.
Олька накинула на голую зацелованную шею платок и отворила.
Немцы вошли: тощие, точные и уж довольно облупленные. Самый тощий густо и плотно, как тост на попойке, объявил:
— Арестованы!
— А за что вы его? — тягуче спрашивала Олька. — Все равно как муж он мне. Неужели же не скажете? Голубчики!
Немцы покидали в Олькин пестрядевый передник письма из ящиков. Папка плюхнула и совершенно разрушилась.
— Шибеники, — выбранилась Олька. — Селяне вас ужо постегают за нахальство!
— Не болтай, Олька! — сказал Щуров. — Они люди подчиненные. Его повели. Немцы торопились и его торопили.
— Олька, а Олька! — крикнул Иван Федорович, уже переступив порог. Нахлынула на него Олька — добрая, крепко сбитая.
— Женюсь на тебе, коли вернусь. Прощай!
— Я вам, Ваничка, кабачков с фаршем сготовлю, принесу и пампушек, — кричала Олька вдогонку. — А куда несть — не знаю.
«Эх толст я, — подумал Иван Федорович, подгоняя свое тулово. — Жила-была Олька и он с ней, и жили в довольстве.» Сказал: «жене моей двадцать два, а мне сорок». Немцы молчали.
Человек подан, затвор хлоп, рычажки назад… Щуров, поданный в довольно заржавленную комнату, попал в паутину. Жестяной крестовик, распустивший на всю комнату грязно-желтые керосиновые лучи, плел их уже много часов. Крестовик поместился на столе. Иван Федорович положил рядом тюречек. Кровать в углу шмякнула.
— Иоганн Флемминг.
Зеленоглазый рыжий немец переполз к нему по дрожавшей паутине и крепко пожал руку.
— Щуров, Иван. Помощник.
Пламя вздрогнуло, маленький немец качнулся на своем участке паутины, сказал:
— Мы камраты. Вдвоем сидеть легче. Только недолго придется сидеть. Вот что плохо.
Щуров, обрадованный, спросил:
— Вы, видно, и раньше бывали в России?
— Я работал задолго до войны, в Риге. Потом работал в Любеке. Меня призвали 4 августа девятьсот четырнадцатого.
Они помолчали.
Немец ласково спросил:
— Г. Щуров, вы не революционер?
Щуров поглядел: лицо у немца взволнованное и все-таки деревянное.
— Нет. Бывало, что спорил с начальством. Однако, специально революцией не занимался. Да и некогда, и жалованье маленькое.
Радость погасла. Они обнюхивались, как крысы. Иван Федорович вдруг подумал: «шпион» и гордо сказал:
Читать дальше