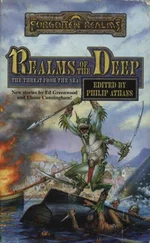Курнатовский внес дымящийся горшок, обернутый расшитым полотенцем, и торжественно опустил на середину стола.
Зинаида Павловна стала торопливо разливать глинтвейн деревянным черпаком.
— Тонечка, передавай дальше. И быстрей, быстрей!
Секундная стрелка начала свой последний круг.
— Ильич! Сидорыч! — закричал Глеб. — Так можно и опоздать.
— Нельзя опаздывать, — отозвался Шаповалов. — На Новый год все должно быть в самый аккурат!
Глеб и Базиль уже несли им горячие стаканы, над которыми светлым туманцем вился парок.
Все стояли с чашками и стаканами в руках, трепетно-нетерпеливыми глазами торопили Ульянова.
— Ну, что ж… — Владимир Ильич качнул головой, как перед выполнением важного долга, и, бросив взгляд на секундную стрелку, продолжал: — Осушим эти бокалы, друзья мои, не только в знак сердечного, взаимного пожелания здоровья, счастья и успехов, не только по случаю Нового года, но и в честь Нового века, который уже виден нам. Он будет нашим веком, веком пролетарских революций, веком свободы!
Мелодичный бой часов слился с глухим звоном стаканов и чашек.
И снова пришла весна.
На этот раз раньше обычного.
Еще в апреле расцвели подснежники. На столе у Нади — букетик. Лепестки уже слегка завяли, а убирать жаль.
Распускается лист на березах. В садике проснулся хмель, принесенный в прошлом году из леса.
На окнах — ящики с рассадой. Надя посеяла левкои, астры и однолетние георгины. Елизавета Васильевна уже распикировала помидоры: соседки заходят посмотреть на невидаль.
Третья весна в Сибири. Последняя!
Матери Владимир Ильич написал, что надеется — добавки к сроку ссылки не будет. А вдруг вызовут в полицию и, как Петру Красикову, объявят: прибавлен год.
За что?
Могут сказать: за большую переписку, за постоянную связь с товарищами, сосланными в другие уголки Сибири и архангельского севера.
Две недели подряд солнце купалось в тихом ясном небе, грело землю. На островах золотистой тучкой осыпалась с тальников пыльца. Осинки обронили коричневые сережки, длинные и пушистые, как бархатные нити. Густой щеткой прорезались острые лезвия пи-кульки.
И к празднику легкий ветерок обмел небо, не оставив в нем ни одной облачной паутинки.
С самого рассвета из-за Шушенки поднялись в безбрежную синь жаворонки, звенели без умолку. Над лугами тихо кружились горбоносые кроншнепы. Изредка посвистывали.
В доме было чисто прибрано. Все принарядились — ждали друзей.
Ян пришел одетый по-праздничному — в накрахмаленной белой рубашке с галстуком. Таким его еще не видели в Шуше. Пожимая всем руки широкой и сильной ручищей, поздравил с первым днем мая.
Отправились к Оскару. Тот поджидал на крыльце, тоже чисто выбритый и приодевшийся, словно на свадьбу. Вместо галстука новый беленький — под цвет сорочки — шелковый шнурок, брюки отутюжены, ботинки начищены до блеска.
Вместе с детьми Проминского вышли за село. По ровному выгону десятилетний Стасик пытался бегать с Дженни вперегонки. Отец прикрикнул на него: не время дурачиться! Потом достал из кармана красный платок. У Леопольда была припасена палочка, похожая на трость. Он привязал к ней алый отцовский платок и пошел впереди широким торжественным шагом знаменосца.
Поднялись на пригорок, пригретый солнцем. Встали в кружок.
Ян заговорил о своей Лодзи, вспомнил весеннюю манифестацию, когда мастеровые первый раз вышли на улицу со своими призывными песнями.
Помяв бритый подбородок, запел одну из тех польских песен. Леопольд подхватил высоким звонким голосом. Надежда сбивчиво подтягивала. Владимир Ильич припоминал русский перевод:
День настал веселый мая.
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
В Лодзи, по словам Яна, полиция не дала допеть — устроила побоище: тридцать шесть человек увезли в покойницкую, больше трехсот бросили в тюрьму. Как в Америке!
— Знаете, с чего начался всемирный майский праздник? — заговорил Владимир Ильич, когда допели песню. — В Чикаго полиция разогнала рабочий митинг. Пять человек были повешены. Один из смертников бросил в лицо судьям разящие слова. Я не знаю точного перевода, но за смысл ручаюсь: «Нашей смертью вы собираетесь погасить искру. Не удастся. И там! — и там! — и там! — всюду вокруг вас снова вспыхнет пламя. Вам не погасить его».
— И в нашей Лодзи не погасить! — Проминский-отец с легким стуком сомкнул кулаки перед своей широкой грудью.
Читать дальше


![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](/books/85187/afanasij-koptelov-dni-i-gody-iz-knigi-vospominanij-thumb.webp)