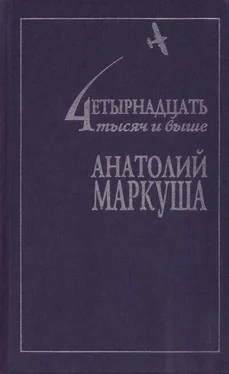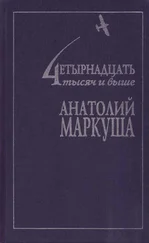— Есенин, — сказала Клавдия Георгиевна. — Это прекрасно! Хабаров посмотрел на нее со вниманием, сделал над собой усилие, чтобы не показывать того, чего показывать не следовало ни лицом, ни глазами, ни интонацией, и нарочито тусклым голосом произнес:
— Это прекрасно, но это не Есенин. Маяковский.
— Маяковский? Не может быть! Прочтите еще раз.
Я хочу быть понят родной страной,
А не буду понят, так что ж,
Пройду над родной страной стороной,
Как проходит косой дождь, —
послушно повторил Виктор Михайлович. И, не глядя в лицо Клавдии Георгиевны, сказал: — И подумать только, заставили человека от таких строк отказаться. А ведь, если вслушаться, если на зуб взять, ничего лучшего он не написал. Вершина.
— Вы любите Маяковского?
— Я люблю, — подавляя возникшее раздражение и заботясь, чтобы Клавдия Георгиевна ничего не заподозрила, — я люблю соленые нежинские огурцы, гречневую кашу с молоком и хороший шашлык по-карски, — сказал Хабаров. Но, как Виктор Михайлович ни старался, шутка не получилась.
Клавдия Георгиевна почувствовала его подспудное, тщательно замаскированное осуждение.
— В общем-то, вы правы. Я всегда была ограниченной. Всегда жила в одну полоску. Захотела в медицину проникнуть — проникла. Выбрала хирургию — все говорили: брось, не бабское это дело, иди лучше в гинекологию или специализируйся на отоларингологических операциях, а я: нет, только общую хирургию мне подавай, и пробилась. Я хороший хирург, настоящий. А еще на что-то души не хватает.
Хабаров не перебивал Клавдию Георгиевну. Ему было неудобно. «Ни к чему этот разговор получился». Но в голову никак не приходил приличный ход для отступления — ни шутливый, ни серьезный.
— В принципе я не жалуюсь, в принципе я своей жизнью довольна, — говорила Клавдия Георгиевна, — мне бы только жестокости побольше. Не умею говорить людям в лицо то, чего они заслуживают. Хочу и не могу. В горле какой-то ком сжимается — и немею. — Она замолчала, и Виктор Михайлович воспользовался этим:
— Это действительно трудно. Так хочется, бывает, сказать иногда человеку: ну и сволочь ты, братец, ну и подлец… А не говоришь. Подумаешь: вот скажу, так разве ж он поймет? Ни в жизнь! А если и поймет и, допустим, поверит, все равно лучше не станет. Подумаешь и молчишь. А на душе паршиво. Тоска.
— Да, да, это вы, Виктор Михайлович, очень точно заметили — тоска. Свирепая тоска, и некуда от нее деваться, и хочется землю грызть…
— Землю грызть, Клавдия Георгиевна, ни к чему. Не поможет. Просто надо взять хорошие стихи и читать вслух, совсем не думая, про что в этих стихах сказано, как, для чего, чему созвучно. Читать, вслушиваясь в музыку слов.
На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.
Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилася!..
И, не дожидаясь вопроса Клавдии Георгиевны, Хабаров сказал:
— Генри Лонгфелло, «Гайавата», перевод Бунина. Если когда-нибудь перед смертью у меня будет хоть пять минут свободного времени, обязательно постараюсь вспомнить «Гайавату»…
Они поговорили еще немного, и Клавдия Георгиевна, пожелав Хабарову спокойной ночи, ушла. В больничном дворе остановилась и, наверное, с минуту смотрела в тусклое, затянутое бледно-сиреневой пеленой небо. Звезды едва просматривались — звезды казались большими, больше, чем всегда, и размытыми. А Млечный Путь совсем затянулся, исчез. И с детства знакомый ковш Большой Медведицы она не отыскала. Попробовала вспомнить что-нибудь из стихов, вот только-только прочитанных Хабаровым, но перед глазами, будто напечатанная, всплыла всего лишь одна строчка: «Ах, он шел навстречу смерти!» Клавдия Георгиевна даже рассердилась: «Чепуха какая-то!..»
Из открытого, но неосвещенного окна послышался голос Вартенесяна:
— Довольно тебе звезды считать. Спать пора.
Накануне вечером был «крупный разговор» и очередное выяснение отношений, и она снова выслушивала упреки, несправедливые, как все упреки на свете, улыбалась, хотя ей хотелось реветь…
Теперь, склонившись над историей болезни, подумала: «С удовольствием выписала бы его хоть сегодня. Слава богу, сейчас он транспортабелен и вообще…» Но записала, конечно, совсем другое:
26 апреля. Состояние больного вполне удовлетворительное. Пульс 76 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме.
Читать дальше