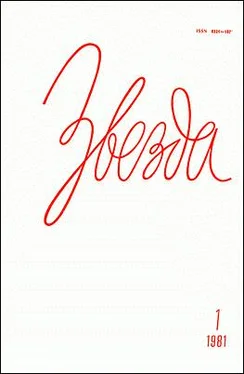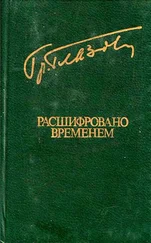— Больше ничего не было.
— Плохо… Вот стервецы!.. Завтра смотаюсь в Криницу и в Борщево. Там немецкие обозники сено сбросили, когда убегали. В старой силосной яме. Я его по стебельку, если придется, заставлю вытянуть. Машину надо использовать…
Они сгрузили все в подвал; опустив крышку люка, Анциферов топнул по ней ногой.
— Замерзли, ожидаючи? — спросил он. — Садитесь в кабину.
Как и с утра, он был полон энергии. Снедаемый одной, понятной Гурилеву заботой, он не желал допускать ни в действия, ни в слова ничего, что не имело отношения к тому, ради чего он приехал сюда. Даже себя, замерзшего, уставшего, голодного, он, казалось Гурилеву, отстранял от себя же — непреклонного, подвижного, понимавшего все и видевшего все дальше и глубже других, отстранял как унижавшую возможную помеху.
«Как же все это совместить — неистовость, необходимость и жестокость?» — думал Гурилев, глядя в спину Анциферова, шагавшего к машине…
* * *
Они лежали на широкой перине, набитой колкой, протыкавшейся соломой. Тонкая дощатая загородка отделяла этот холодный чулан от сеней. Вельтман чувствовал, что Нина никак не может согреться под жиденьким хозяйским рядном из жесткой домашней пряжи, с которого давно стерся плотный ворс, и все старался подвернуть ей под бок полу своей шинели.
— Какой ты большой, — сказала она, прижимаясь щекой к его плечу.
— Ты только сейчас это заметила, лежа? — тихо засмеялся он.
— Мне придется носить туфли на очень высоком каблуке.
— Конечно, — шутливо согласился он.
— А вдруг все неправда? — прошептала Нина.
— Что?
— Ну вот это… У нас с тобой… Если это — как во сне. А потом — утро. И останется только вспоминать. И ничего уже не исправить. Сон исправить нельзя. Если он сладкий — хочется, чтоб еще долго снился. А горький — болит, скорей бы проснуться.
— Я тебя сейчас щелкну по носу, и ты поймешь, что это правда, а не во сне. И больше не станешь болтать ерунды, — сказал он, глубоко втягивая теплый запах ее волос, мягко лежавших у его лица…
Они потянулись друг к другу разом. Его опыт и ее торопливая страсть сжигали Нину до изнеможения, она задыхалась, слепо ища губы Вельтмана, сильно вцепившись пальцами в его плечо, словно боялась хоть на мгновение остаться одна в этом невыносимом, до стона сладостном полете, откуда она возвращалась счастливо уставшая, с гулко бьющимся у горла сердцем. Потом она затихла, держа Вельтмана за руку.
— Спи. Завтра рано вставать, — хрипло прошептал он.
— Хорошо, — послушно ответила Нина, пошевелившись, устроилась поудобней и по-детски радостно вздохнула.
«Кто же она? — думал Вельтман, вслушиваясь в ее ровное дыхание. — Лежит рядом. Доверчиво. Успокоенно… И почему она, а не другая? Случайность? Или природа долго вела свой отбор, отыскивала разбросанные в огромном мире, существовавшие розно два цветных стеклышка, чтобы, составив их, получить осмысленный, как в витражах, рисунок?.. „Безмерное, превыше чисел, время скрывает явь и раскрывает тайны…“ Это, кажется, у Софокла…» «Я, наверное, люблю тебя», — вспомнил он слова Нины. Что вкладывала она в это? Как объяснила бы то, что тысячелетия люди тщатся объяснить, но не могут до конца исчерпать значение этих слов? И все же произносят… Потребность? Он не произносил никогда… Не испытывал нужды, бывая с другими женщинами… Повторяя про себя, как пробуя, замечал даже ироничный привкус. Сейчас он вдруг ощутил сочетание этих слов… Ощутил! Они возникли в нем. Сами по себе. Но произнести их поостерегся: звук может сфальшивить, исказить смысл… А какой же смысл он вкладывает в них? Даже его рациональный ум не разложит их на составные… Были умы похлеще! «Я люблю тебя» — формула! Как в математике. Она решает, но не объясняет. И остается с этим согласиться… С ним все может случиться — война. Надо написать в Тулу отцу. Вдруг Нина забеременеет… Отец примет. Он без предрассудков… А Нине дать тульский адрес. Не объясняя. Просто так. И с улыбкой, дескать, на случай, если они потеряются… Как он сказал сегодня этому бухгалтеру насчет заочной любви? Не резко ли? Старик, кажется, приятный, интеллигентный. Времени нет, поговорить бы с ним… Вспомнили б Джанталык…
Вельтман чувствовал, как во сне Нина согрелась, ее маленькая босая ступня была теплой, расслабленной. Он попытался представить себе Нину в туфлях на высоком каблуке, в легком платье, с иной прической, но возникало что-то неясное, далекое, чужое, чему он не мог придать милых черт, привычных интонаций голоса, привычной манеры вскидывать на него глаза, которые в этом воображаемом облике даже не имели цвета…
Читать дальше