Думаю, там, в своей общине, он считался честным и умным человеком (что может быть выше для еврея?), потому что однажды, когда он сломал себе руку, поскользнувшись на льду у двери уборной, и долгое время не выходил из дому, сам главный раввин оказал ему честь, навестив его вместе с женой и проведя с ним двадцать минут в неторопливой и достойной беседе.
Я имел удовольствие быть свидетелем этого события. Оно произвело на меня впечатление.
В то время мы с мамой уже переехали в многолюдный дом Якова Ройтмана, уже начали жить иной, обеспеченной жизнью, уже перешли в иное качество, в категорию богатых родственников. И хотя подлинное притесненное мое положение никогда никем вслух не обсуждалось, более того — молчаливо предполагалось, что со мной-то все прекрасно и отлично и что даже если и возникают какие-то трудности, то все равно «ради мальчика это надо было сделать», хотя все окружающие и вели себя, исходя из этого именно тезиса, и, начни я жаловаться, меня бы просто не стали слушать, несмотря на все это, отношение ко мне моих родичей не только не изменилось к худшему, но, напротив, стало еще теплее. Слишком они любили меня, чтоб уж совсем ничего не почувствовать.
Но и я тоже только здесь — в пенатах, в нашей старой развалюхе с осыпающимися стенами, в захламленном просторном дворе с палисадничками и огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, сбитыми неверной рукой моего дяди, — только здесь я и чувствовал себя дома. И много еще лет после переезда я возвращался сюда каждую субботу и чуть не со слезами (а иногда со слезами) уезжал в воскресенье вечером. Именно так: уезжал — туда, а сюда — возвращался.
— Шен! — говорил Яков. — Уже! Он уже собрал свои вещи, и его уже нет. (Никаких вещей я, естественно, не собирал. Просто он пытался придать вес и значительность акту моего отъезда.) Дома ему плохо, дома. Здесь его бьют, и не кормят, и не поят. Ему надо тратить деньги на дорогу и везти гостинец, везти — а как же! — он же не может без подарка! Он уже заработал кучу денег, он гнет спину с утра до вечера, и ставит головэ, и рискует жизнь, и у него уже куча денег, и он отвезет своему дяде подарок. А дядя, ему что, ему разве плохо? Пусть приезжает, пусть. Пусть приезжает и пусть везет подарки, дядя только доволен…
(Никаких подарков я тоже, конечно, не вез. В свертке, который давала мне мама, лежала какая-нибудь старая дядина же собственная рубаха, трикотажная, скользкая, с коричневыми полосками. Эту рубаху я в прошлый раз привозил маме и теперь, залатанную, зашитую, с перелицованным воротом, отвозил обратно. Подарки же, если можно их так назвать, я как раз вез оттуда сюда. Это была банка кислой капусты, сочной, хрумкой, приготовленной с любовью и знанием дела; или свежие помидоры с собственного огорода, душистые, крепкие, с зеленым подсыхающим листиком; или коробка конфет, принесенная состоятельным гостем и оставленная нетронутой — «для мальчика»…)
— Какие подарки? — как можно мягче говорила мама. — Где ты видишь подарки? И на дорогу он тоже не будет тратить, поедет без билета на трех трамваях, так даже удобней…
Она провожала меня до крыльца, совала в руку два скомканных рубля и говорила нейтральным, примирительным тоном:
— Я надеюсь, ты уже привык и не обращаешь внимания. Езжай на метро, так быстрее…
И целовала меня в щеку.
Я приезжал в субботу и оставался ночевать, а в одно из воскресений к деду приехал раввин.
Зима в тот год была неровная, с оттепелями, все дорожки вокруг дома обледенели — на этом гололеде и сломал дед свою руку. Я вышел из дому, крутя на пальце ключ от сарая — надо было набрать дров для дедовой печки, — и случайно взглянул в сторону калитки. Такого я еще никогда не видел: мне навстречу с той стороны забора двигалась огромная серебряная борода. Размеры бороды были просто фантастическими, да еще она почти сливалась с серым каракулем, окружавшим ее со всех сторон и тяжело нависавшим сверху. Носитель бороды имел черное, тяжелое, длинное, почти до пят, пальто, опирался на черную блестящую трость и медленно перемещался вперед вращательно-колебательными движениями, как игрушечный заводной медведь. Был он важен, толст, велик и сиятелен. Шагах в шести позади него в том же направлении, с той же скоростью и тем же колебательным способом двигалась маленькая толстая женщина с незапоминающимся лицом, обыкновенная старая еврейка, каких миллион на тысячу.
Почему он впереди, подумал я в первый момент. Мог бы все же пропустить женщину. Но тут же понял, что иначе и быть не могло. Такая была между ними дистанция, что жалкие эти пять шагов могли служить лишь очень скромным ее воплощением.
Читать дальше

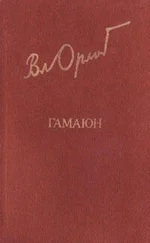



![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/407769/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni-thumb.webp)