— Де-е-душка, переста-а-ань, — тянул я.
У нас в семье было не принято, чтобы взрослый, пожилой человек употреблял эти слова. Так могли — в отсутствие взрослых — говорить дети или не совсем еще взрослые молодые люди. Грубость деда меня шокировала, она отнимала у него остатки моего уважения и была для меня лучшим доказательством его неправоты помимо всякой логики. Человек, употреблявший такие выражения, в принципе не мог быть прав. Не говоря уже о грамматике, о произношении, о языке, которым он изъяснялся…
Именно — не говоря . Я с первого же момента и без всяких сомнений отказался от попытки передать особенности дедовой речи. Это не было искажением русского языка, нет, какой уж тут русский язык! Он изъяснялся на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, еврейских и украинских слов с небольшой примесью польских оборотов — это давало ему возможность хвастать, будто он знает пять языков. «Русский, украинский, польский, — говорил он, загибая костлявые пальцы, — еврейский и древнееврейский! Ну?.. И адрес могу написать по-английски!» — эффектно добавлял после паузы.
Каждый из этих четырех или пяти языков вносил в его речь свои грамматические формы, свою систему слово- и фразообразования. И теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти даже не самое его речь, но хотя бы ощущение этой речи, мне приходит в голову, что в чудовищной этой каше чужеродных осколков, еще сверкающих зернами изломов и никак, казалось бы, не соединимых друг с другом, существовала тем не менее определенная закономерность, несомненная естественность, я бы даже сказал — гармония, свойственная всем живым природным явлениям. Это было чудовищно, но это был язык.
И, конечно, я не запомнил ничего дословно. Сочинить же этот язык, синтезировать его за столом невозможно, как, будем надеяться, невозможно синтезировать никакое живое явление.
То, что мне удается вспомнить — общий смысл, интонацию, кое-что из слов и словечек, — я и пытаюсь здесь передать.
Но если бы даже я помнил все буквально и дословно (дозвучно?) или если бы в комнате моего нищего деда действительно стоял магнитофон и я имел бы сейчас в своем распоряжении все пленки с записями его разговоров и мог бы с помощью каких-то значков изобразить все это на бумаге — даже такое чудо мало что изменило бы. Образованный читатель (какая старая, лестная, какая милая и приятная формула!), не хуже деда знакомый с русским, украинским, польским — не забывайте загибать пальцы! — еврейским и древнееврейским языками и умеющий сверх того написать адрес по-английски (интересно, чей это будет адрес?..), образованный читатель, несмотря на всю свою образованность, не мог бы здесь понять ни единого предложения.
И пришлось бы мне тогда на полстраницы текста давать полстраницы перевода, как будто это говорит не полуграмотный старый еврей, а какая-нибудь мадам Шерер…
— …Подтереть свою задницу! — восклицал дед, и этого было мне достаточно, чтобы считать глупостью все, что он говорил раньше. Но я чувствовал все же необходимость как-то ему возразить и хватался за первое, что приходило в голову.
— Пять рублей? — переспрашивал я. — Но ведь это, наверное, рублей сто на наши деньги? Где бы ты столько взял? У тебя и теперешних пяти рублей не наберется…
Не могу сказать, чтобы дед был беден — он был нищ. У него была комната, и одежда, и посуда, и мебель («Нищие — и те всегда имеют что-нибудь в избытке»), но ничего у него не было своего, купленного или сделанного для него лично, все было с чужого плеча и с чужого стола — пусть хоть с плеча и стола ближайших его родственников. Он носил заношенные штаны своих сыновей, он сидел за столом своей снохи, моей матери, на стуле другой снохи, моей тетки, ел из толстой пятнистой тарелки, которую сплавила ему его племянница, и спал на дырявом красном диване, который выбросили за ненадобностью новые соседи, въехавшие в прежнюю нашу большую комнату.
Он был нищ и даже собирал милостыню, но собирал он ее не для себя, а для бедных . Существовала при синагоге специальная касса для помощи бедным членам общины, и он был кассиром этой кассы. Сам он никогда этой помощью не пользовался и бедным себя не считал. Он получал ничтожную, символическую пенсию, и еще ему по капле давали родственники. На столе у деда всегда стояла картонная коробка из-под печенья со щелью в крышке, грубо прорезанной ножом. Это была копилка для пожертвований. « Шенк а недуве », — говорил дед всякому входящему, и надо было бросить в щель монетку или, если ты такой добрый, просунуть сложенный вчетверо рубль. Эти деньги дед отвозил в синагогу, и он же распределял их среди нуждающихся. Себя, как я уже говорил, он к таковым решительно не причислял.
Читать дальше

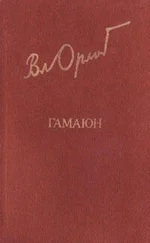

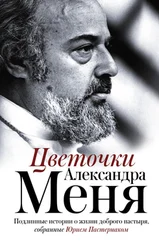
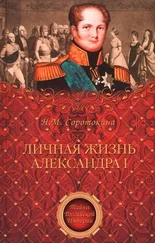
![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/407769/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni-thumb.webp)