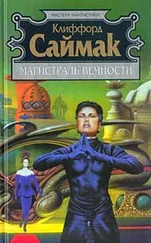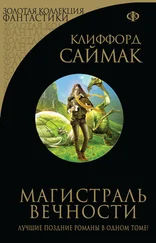Даже ей стало весело. Она подхватила под руку Михаила, надела ему на кухне фартук, вручила нож и приставила к сковороде караулить, чтобы бифштексы не пережарились. А сама налила молоко прибежавшему на запах мяса Василь Василичу и начала накрывать в комнате большой стол — обстоятельно и продуманно, как это делала только по праздникам.
Она расставляла тарелки, рюмки, звенела ножами и вилками и слушала, как подтрунивал Антон над Аленой, как Виктор рассказывал старый-старый, «бородатый» анекдот и с удовольствием сам над ним посмеялся. А потом внезапно наступила какая-то неестественная, многозначительная тишина, и Люся оглянулась на гостей.
Незнакомый полковник и Антон — оба очень серьезные — стояли друг против друга посреди комнаты, и глаза их, встретившись, словно высекали невидимую вольтову дугу: так велика была сосредоточенная в их пристальных взглядах сила угадывающей, вопрошающей мысли.
Виктор подошел к Люсе, взял из ее рук вилки, положил на стол и остался стоять рядом, обеспокоенно, стерегуще наблюдая за полковником и Антоном. Геннадий, собравшийся куда-то звонить, теперь стоял, изумленно глядя на них, и трубка в его руке надоедливо, монотонно гудела. Встревоженная Алена выпрямилась в кресле и готова была вот-вот тоже подняться.
— Антон! — не выдержал Виктор.
Но тот отстраняющим жестом остановил его. Сказал полковнику тихо, одними губами:
— Младший лейтенант. Из училища...
Полковник молчал, отвечая только глазами, и Антон еще какую-то долю секунды смотрел на него и, окончательно утвердившись в догадке, повторил:
— Младший лейтенант... Шатько.
И оба они одновременно раскинули руки, обнялись крепко и молча, и лица при этом оставались напряженными, даже строгими.
Отпустили друг друга и обнялись снова. А потом, пряча глаза, оба бросились за сигаретами. Затянулись торопливо, нервно и лишь после первых затяжек снова посмотрели друг на друга и тогда заулыбались, заговорили, зашумели. И радостное, нервное их возбуждение: передалось всем.
— Как ты здесь? Откуда? Где остановился? — забросал Антон полковника вопросами, и тот едва успевал отвечать. — В гостинице? Останешься у нас! Завтра свободен? Отлично.
И начинал:
— А ты помнишь?.. — и тут же обрывал себя: — Потом. Ладно. Люсь! Постелешь нам обоим в Санькиной комнате — всю ночь будем говорить. Виктор, оставайся и ты. Не можешь? Ну, шут с тобой! Без тебя даже лучше...
В той же самой комнате сидели те же самые люди. И то же несчастье связывало их мысли. Но все теперь было по-другому. Применительно к Антону несчастье казалось опасным, но все-таки слабым врагом, не способным одолеть — не способным даже надломить! — мощную, полную жизни, богатую и щедрую его натуру. И потому теперь даже Геннадию были нелепы его собственные слова: «Потерял... Антон потерял голос». Конечно же нет! Не потерял. Отдал... Подарил... Раздарил людям. Щедро и радостно, не заботясь о том, насколько его хватит. И от прикосновения к его бескорыстному таланту кто-то, быть может, стал чище. Кто-то — счастливей. Кто-то — добрее... Но и это не все. Ведь Антон талантлив не только голосом. И, значит, щедрости его не настал конец.
Геннадий не удивился своему открытию. Не удивился и тому, что вечно жившая в нем зависть к Антону не умерла со смертью Антонова голоса. Она, как цепкая, долгая болезнь, укоренилась в Геннадии так прочно, что могла умереть только с ним вместе. И, чтобы успокоить ее, оказалось недостаточно радости от сознания исполнившейся мечты. Да, он не будет больше дублером. Не будет числиться во втором составе, и отныне все премьеры, все аплодисменты и цветы будут его...
Геннадий разволновался настолько, что не мог спокойно сидеть, делать вид, что участвует в разговоре. Налил себе в кофейную чашку ликеру и, удивив всех, торопливо выпил один.
...Да, он не будет больше во втором составе их театральной труппы! Но так же, как Антон, потеряв голос, остается талантливым, он, Геннадий, обретя место премьера, остается... во втором составе, Он знал теперь это совершенно точно. Знал, что не только в театре, в самой жизни есть люди первого и второго состава. Они сами поступками своими, помыслами, чувствами причисляют себя к одному из них. И перейти из второго в первый в жизни много трудней, чем в театре.
Где, когда, почему он определил себя в этот «второй состав»? Как сделал первый к нему шаг? С чего началось это? Может, с той самой брони, хранившей его все военные годы? Может, с того дня, когда провожали на фронт так и не вернувшуюся домой Зойку? Может, еще раньше?
Читать дальше