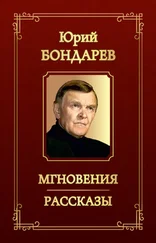– Ничего… Это звонки, - успокаивающим шепотом сказал он. - Звонки. Возраст. Не беспокойтесь. Ничего, ничего. Она… в этом письме… - после молчания заговорил он уже несколько громче, - просит меня, чтобы я посодействовал вашему переводу. Из Ленинграда. В Московский университет. Вы этого хотели? Я постараюсь это сделать. Незамедлительно.
Никита задвигался на теплом краешке кожаного кресла, ничего не понимая, машинально полез за сигаретой.
– То есть как? - спросил он. - Зачем же?
– Что вы? - Греков перевел дыхание и, заметив сигарету в пальцах Никиты, умоляющим взглядом попросил не курить. Никита тоже невольно покосился на сигарету, смял ее, сунул в карман.
– Вы сказали: "Зачем?" - проговорил Георгий Лаврентьевич. - Позвольте… Вера также просит, чтобы я помог вам обменять ленинградскую квартиру на московскую. Я помогу вам, хотя это нелегко… Но я все, что смогу…
– Но я не хотел, это не так, - ответил Никита неловко, пытаясь понять, почему мать в этом предсмертном письме просила о его переводе в Москву. - Мать сказала мне в больнице, что я должен буду поехать к вам. Когда передавала письмо, она только об этом просила.
Он замолчал. Греков наблюдал за Никитой с горьким ощупывающим выражением.
– Ваша мать была известной ученой… И в Ленинграде у вас, должно быть, большая квартира.
– У нас не было большой квартиры, - возразил Никита. - А две комнаты в общей… Нам с матерью не было тесно. Потом, когда мать положили в больницу, я сдал комнаты полковнику. Соседу, у него четверо детей… А сам только приходил ночевать. После смерти матери я попросил койку в общежитии. В университете. Мне обещали.
– Но для чего, для чего вы сдали свои комнаты?
– Мне нужны были деньги.
Греков вдруг спросил суховато:
– Что? Разве вы не получали стипендии?
– Получал. Но мать полгода лежала в больнице, - сказал Никита и, сказав это, увидел заалевшие, как от внутреннего жара, щеки Георгия Лаврентьевича. - И я хотел, чтобы… Разве вы не знаете, для чего нужны деньги, когда кто-нибудь болеет?
Георгий Лаврентьевич молчал, пристально смотрел в стол, сутулясь; его белые нависшие брови двигались, он будто прислушивался к своему дыханию. Это прислушивающееся, углубленно-растерянное выражение удивило Никиту, и удивил его голос, ослабленный, разбитый:
– Скажите, Вера… моя сестра говорила что-нибудь перед смертью о своей молодости? Она мучилась, жалела о чем-нибудь?
– Нет, - сказал Никита. - Я не знаю.
– И у нее были слабости, - безжизненным голосом сказал Греков и утвердительно прикрыл глаза. - И у нее…
На письменном столе опять зазвонил телефон. Греков вздрогнул, потом невнимательно поднял и опустил кончиками пальцев трубку; телефон снова затрещал требовательным звонком, отдаваясь в ушах.
В дверь постучали, и голос Ольги Сергеевны:
– Георгий, можно? К тебе пришли из комитета. И звонят из газеты.
Греков выпрямился в кресле и почти неприязненно повернулся к двери. Затем в руках его мелькнуло, зашуршало письмо матери, взятое со стола; колыхая широкими рукавами халата, он как-то чересчур суетливо засунул письмо под бумагу, выскочил из-за стола и своей нервной танцующей походкой подбежал к двери, отдернул портьеру.
– Оленька! - решительным и вместе умоляющим тоном крикнул он в приоткрытую дверь. - Из комитета в два, в два часа, я предупредил! Я занят. Кто там? Пискарев? Пусть подождет! И прошу, пожалуйста, или выключить телефон, или всем говорить, что я болен. Неужели нельзя меня избавить от телефонных разговоров по утрам? Опять консультация? Я не стол справок. Есть другие специалисты, наконец!
– Ты должен принять Пискарева, - с вежливой настойчивостью ответила Ольга Сергеевна. - Ты должен и обещал. Ты забыл? И подойди, пожалуйста, к телефону.
– Я никому ничего не должен, это немыслимо! - Греков в отчаянии даже прижал щепотки пальцев к вискам. - Скажи, что у меня стенокардия, что я болен…
И ровный, спокойный голос Ольги Сергеевны:
– Подойди, пожалуйста, к телефону. Это неудобно все-таки, Георгий.
Дверь кабинета захлопнулась. Греков задернул портьеру, сердито и вроде бы беспомощно обернулся к молчавшему Никите, и тут же в каком-то нарочитом негодовании стремительно подошел к телефону (замелькали белые щиколотки под халатом), и, фыркая носом, сдернул трубку, крикнул звонким фальцетом:
– Скажите, милейший, могу я спокойно поболеть или уж, позвольте… Кто? Не имел чести! Да-с, мой день рождения на носу, а вам, собственно, что?
Читать дальше