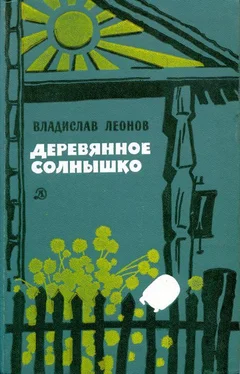— Погоди, — медлил Бабкин, еще раз оглядывая поле и обреченную деревеньку.
— Разворотили! — проворчал Лешачихин сын. — Но ведь так нужно, да? Верно?
— Жалко, — сказал Бабкин.
— Жалко, — согласился с ним Павлуня, косясь на Трофима.
— Жалко! — Беспечный Женька помахал рукой растерзанной земле: — Прощай, наше поле!
— Спасибо тебе, — без улыбки проговорил Бабкин.
А Женька больше ничего путного не выдумал. Он шел позади братьев, сбивал прутиком пыль с лопухов и твердо верил в хороший завтрашний день.
Задумчивые, шагали ребята по совхозу. Уже собирался под светлые колонны клуба народ. Шли из соседних деревень, из города. Молодежь знала: уж если директор пригласил оркестр, то только военный, если уж танцы — то до утра.
Возле теткиного дома Павлуня, ковыряя носком землю, пробормотал:
— Миша, зашел бы, а то все мимо, мимо...
— Ладно, — согласился Бабкин. — Зайдем.
Тетка не изменилась: она такая же широкая и красная. На ней все то же «домашнее» изодранное платье, галоши на босу ногу. И прическа на голове «рабочая» — осенняя ржавая копешка в шпильках. «Как будто и не уходил никуда», — удивился Бабкин, глядя на тетку.
Перед ней тарахтела и прыгала старая стиральная машина. Увидев Бабкина, тетка выдернула шнур, вытерла руку и, подавая ее, белую, распаренную, всем по очереди, сказала своим обычным, тонко натянутым голосом:
— А, племянничек пришел! Проходите в комнату!
«За руку со мной, как с чужим», — отметил Бабкин.
— Проходите, проходите, — повторяла тетка.
Ребята переглянулись: пройти было нелегко — двор перехлестнут веревками, на которых болтается белье.
— Дачников проводила, — громко объясняла тетка. — Теперь вот стираю. Замучилась. А что поделаешь — рубль на дороге не валяется. Да вы проходите, я сейчас, только достираю, только белье повешу...
Но она не стирала, не вешала, а говорила, говорила. Так же громко, как раньше, но только непривычно много и все об одном — о пестром боровке, который — вот горе! — сбежал куда-то от дачного шума.
Бабкин углядел седину в ее волосах и беспокойство в лице.
— Мы пойдем, пожалуй. Не станем мешать.
И опять тетка подала ему руку, а потом — Женьке. Лешачихин сын принял подарок с кислой миной.
Ребята шагали к калитке, а тетка, поспевая за ними, на весь двор рассказывала про боровка.
— Тоска зеленая, — поежился Женька, когда они очутились на воле.
Бабкин сощурился на теткино деревянное солнышко, изрядно полинявшее.
— Ты чего? Опоздаем! — торопил Женька.
Бабкин посмотрел на него и толкнул калитку.
— Погоди-ка.
Тетка стояла перед стиральной машиной, совсем одинокая, уже не молодая.
— Бросайте все, Марья Ивановна, — вежливо сказал ей Бабкин. — И одевайтесь. У нас в клубе вечер.
— Устарела я по вечерам-то! — сердито отозвалась она. — А дефицит привезут?
— Привезли. Приходите.
Перед началом торжественной части народ разбрелся по просторному клубу. Каждый нашел дело по душе: кто сидел в буфете, кто покупал книжки.
Климовские бабушки устроились в удобных креслах и вязали, как у себя дома, нацепив очки на нос. В этих очках три сестрицы еще больше были похожи одна на другую.
Разошлись и ребята: Бабкин увидел Татьяну и сразу побежал к ней сквозь танцующих и пляшущих. Павлуня побледнел и сел к бабушкам — поглядеть, как вяжут. Женькин петушиный голос раздавался из бильярдной.
Тетка, едва появившись, сразу побежала в фойе, где были разложены всякие товары. Растолкав народ, пробралась к прилавку и отхватила дешевый чайный сервиз. Счастливая, ходила с коробкой по клубу, натыкаясь на людей. Потом коробка стала мешать ей, и тетка начала думать, куда девать добычу.
— Ты в раздевалку сдай. Обнялась! — сказала ей Лешачиха.
— Разобьют! — нахмурилась тетка под ее насмешливым взглядом, но сдала все-таки сервиз в раздевалку.
А потом ей не сиделось в зале, и все представлялось страшное: разбитые в куски чашки да блюдца.
— Покарауль место! — сказала она соседке, одной из климовских бабушек, и побежала относить покупку домой.
В маленькой комнатке, за сценой, мучился Ефим Борисович. Закрыв уши ладонями, он сидел над столом, уткнувшись в лист бумаги, и бубнил вступительную речь. Лицо его выражало скорбь и покорность судьбе. Везде любил директор быть первым, но речи говорить он бы с удовольствием оставил для других.
— Начинаем, Ефим Борисович, — заглянул к нему парторг.
Директор позади всех тяжко побрел на сцену. Огляделся. Сбоку сидел красный, сердитый, словно чем-то недовольный товарищ Бабкин. Ослепительно выделялся белый воротничок рубахи на бронзовой шее. На его лбу директор заметил капельки пота и сочувственно подумал: «Тоже мается!»
Читать дальше