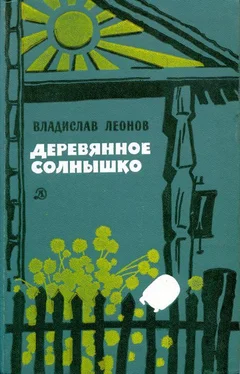Возле дома остановились. Слышно было, как во дворе тетка тонким, злым голосом за что-то честила пестрого боровка. Павлуня загнанно посмотрел на Бабкина.
— Ну-ну! — нахмурился Бабкин. — Смело.
— Да я ничего. Только она уж... На всю улицу ведь... Можно, я с тобой лучше?
— Пойдем! — с охотой согласился звеньевой.
Они добрались до Лешачихиного двора. Бабкин привычно повернул кольцо у калитки, они вошли.
— Ой ты! — испугался братец, останавливаясь у порога.
На крыльце, на высоких ступеньках, отбивался ногой от Жучки маленький пыльный паренек с острой мордочкой.
Бабкин оттащил собаку, привязал ее к новой будке, недавно сколоченной, и тогда паренек, спрыгнув с крыльца, набросился на него:
— Смеешься, да? Веселишься, да?
— Здравствуй! — протянул ему руку Бабкин. — А мать тебя заждалась.
Паренек цепко ухватил было дружелюбную ладонь, но тут же оттолкнул ее и зашипел, показывая острые белые зубки:
— Посадили, да? Загубили? Ну, погоди, теткин племянник! Я с тобой за твою тетку рассчитаюсь! И с тобой, и с тобой тоже, теткин сын! Чертов Павлуня.
— Молчи уж, — сказал Павлуня. — Не то Жучку отвяжу.
Паренек, опасливо отодвигаясь, проговорил быстрым голоском:
— Трое на одного, да? Справились? — Замахнулся на собачонку: — И ты тоже? Зря я тебя притащил!
Он сразу обиделся и уселся на крылечке, посматривая на братьев живыми, черными глазками. Все в нем было маленькое, суетливое — и черты лица, и движения, и слова. На узкий лоб наискосок нависала челочка, ушки оттопыривались.
В калитку тяжело вбежала Лешачиха.
— Здравствуй! — сказала она торжественно, подступая к сыну. — С возвращением!
— Ма-а, — протянул Женька, поднимаясь и роняя с колен грязную кепку.
Лешачиха сгребла его в охапку, прижала к тощей груди. Он, как щенок, тыкался носом и бормотал:
— Да ладно тебе, пусти-ка... Мне бы поесть... картошечки...
Так ясным летним вечером возвратился к матери о н.
Под яблоню притащили стол, свет из окон падал на белую, яркую скатерть, на молодое лицо Лешачихи. Толклись и гудели зеленые незлобивые комарики. Угрюмо, недоверчиво посматривал Женька и на братьев, и на Жучку, и на комариков.
Лешачиха, отозвав Бабкина, шепнула ему:
— Спроси, может о н искупаться хочет?
— А то нет? А то не хочу? — взъерошенно откликнулся он. — Думаешь, сутки трястись приятно? На верхней полке!
Бабкин взял мыло, полотенце, чистое белье и сказал:
— Пошли на пруд, отмывать тебя будем!
Ворча и обижаясь, Женька побрел за братьями.
Лешачиха заторопилась с ужином.
Забухали шаги. Мощно размахнув калитку, во двор не вошла — ворвалась тетка.
— Пашка! — закричала она с порога. — Вылазь! Все равно найду! Не помилую!
Жучка забилась в конуру и носа не показывала, пока гостья бушевала во дворе. Тетка, окинув взором стол, криво усмехнулась.
— Приваживаешь работничков? Хи-итрая. Только Пашку ты зря сманиваешь: от него никакого толку, сама мучаюсь.
— Праздник у меня, — тихо отвечала Лешачиха, посветлевшая лицом. — И ты, немилая моя подружка, оставь-ка хулу да садись к столу.
— Ишь ты, Настя-сочинитель! — сердито удивилась тетка и выкатилась за ворота.
Она села на скамейку, перед этим покачав доску руками — не подгнила ли? Но столбы крепко врыты, доска, тоже новая, не качалась. Тетка внимательно посмотрела на свежие латки в старом заборе, на весело покрашенные наличники и, распознав легкую руку Бабкина, вздохнула.
От калитки, посвечивая, убегала в сумерки чистая тропинка. Она ныряла в лютики да в одуванчики, мелкая кашка мигала по краям ее, над ней перехлестывались высокие, ясные травы. По этой тропинке ушел ее Павлуня.
Тетка, уперев взор в свои галоши, надетые на босу ногу, расслабленно слушала. Во дворе Лешачиха ласково разговаривала с Жучкой. На пруду кричали ребята, и громче, беззаботнее всех звенел голос Павлуни.
— Расшумелся, будто получку большую получил, — пробормотала удивленная тетка и поджала губы.
Вот от пруда пошли гуськом по тропинке — босые, лапчатые, утираясь по-мальчишески майками, — Боря Байбара, Женька, Бабкин. Павлуня брел последним с ботинками через плечо и улыбкой на ясном лице. Узнав мать, он опал и съежился.
— А вот я опять здесь... — начал Павлуня, и ему вдруг захотелось поведать матери о том, как страшно приходить в чужой непонятный цех. Ему захотелось растолковать ей, что человеку не нужно ни больших денег, ни громкой славы, а только было бы над головой пусть серенькое, но зато свое, привычное, без крюков и рельсов родимое небо. Ему захотелось объяснить, что завод, пусть и самый хороший на свете, но не для него. Там шум и пахнет железом, а он любит, когда пахнет землей — хоть и самой сухой, хоть и мокрой.
Читать дальше