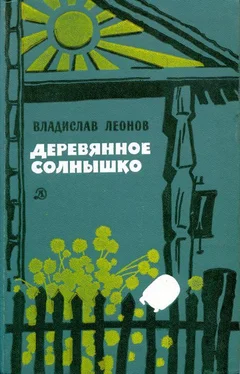— Болит? Да говори, ты!
Павлуня и в мирные минуты туго соображал, а теперь, после встряски, он и совсем не мог собрать рассыпанные по темноте мысли. Наконец он вздохнул, шевельнулся и, поднимаясь на ноги, сказал равнодушно:
— Ничего...
И тут Бабкин почувствовал, как зажгло, заломило его ногу чуть пониже коленки, и, крякнув, ухватился за нее.
— Ой! — испугался Павлуня, наклоняясь к нему. — Чтой-то?!
— Ничего, — ответил Бабкин. — Помоги-ка мне.
Долго бились они над мотоциклом, но он не заводился. Вести же его за рога по такой квашне было невмоготу. Ребята спрятались под иву, стали дожидаться. Дождь перестал, и скоро они услыхали пофыркивание мокрой лошадки, стук телеги, голоса.
— Эй, космонавт? — спросил Трофим. — Ты, что ли?
Видно, мостовщик либо кто из шоферов успел рассказать ему про бабкинский прыжок.
Боря Байбара кинулся не к мотоциклу с разбитой фарой — он суетился над Бабкиным, подсаживая его на телегу, накрывал плащом:
— Как же ты так, а? Здорово разбился, а?
А тетка, в меру поохав над Павлуней и убедившись в его целости, закачала головой над поверженным мотоциклом.
— Ай-ай-ай! Во сколько теперь ремонт влетит!
Тетка до боли в печенке жалела деньги — и свои, и чужие.
Настасью Петровну недаром прозвали Лешачихой: она знала травы, у нее на просторном чердаке развешаны пахучие пыльные веники от всех болезней. Она живо приготовила, какое-то варево мутного цвета и противного вида, усадила Бабкина на стул, а сама, стоя перед ним на коленях, осторожно промыла глубокую ссадину на ноге. Потом, поднимаясь и запихивая в рот папироску, сказала:
— А теперь поспать бы — и заживет до свадьбы.
Бабкин посмотрел на Павлуню — братец скривился. Лешачиха туманно усмехнулась:
— Ничего, ребятки. Еще не все сказано, да не всякая ниточка завязана...
Она стала выпроваживать гостей. Первым ушел Боря Байбара. Гибкий, худой, подвижный, он выскочил за дверь, а через минуту затрещал его мотоцикл.
— Ишь ты, прочихался! — удивилась тетка.
Она стояла на улице, не решаясь войти в дом к Лешачихе. А Пашка все не выходил, все топтался на пороге, все собирался что-то сказать Бабкину. Но только он открыл рот, как с улицы раздалось звонкое:
— Павлуня-а, домой!
Забрехали собаки. Лешачиха, услыхав тетку, в сердцах плюнула. Братец, споткнувшись о порог, выскочил.
Бабкин сидел посреди кухни, опустив босую ногу в таз с остывшим зельем. Он был так мрачен, грязен и кудлат, что Лешачиха невольно улыбнулась:
— Хорош. Рога нацепи — прямо черт на цепи!
Бабкин покрутил головой.
— Как это у вас все складно!
Лешачиха чем-то присыпала его рану, перевязала, сказала еще пару смешных слов, и Бабкин ожил, поскакал переодеваться.
Лешачиха, мелькая острыми локтями, проворно мыла ему голову над тазом. Волосы у парня сердитые, и Настасья Петровна ворчала на их черную неподатливость.
— Сам, сам! — проплевывался сквозь мыльную пену Бабкин, но она не пускала, торжественно отвечая:
— Ничего, о н тоже мыться не любил. Все вы одинаковы.
Потом, увидев Бабкина, розового, промытого, в белой рубахе, Лешачиха пригорюнилась.
— И о н такой же был, — бормотала она, — статный, красивый...
Не дожидаясь, пока о н вырастет до потолка и зашагает, проминая половицы, Бабкин ушел в свою комнату.
На рассвете, когда тени еще не выросли и ходят за людьми бледные, сонные, у механического цеха собирается на воскресник неразговорчивый народ. Он залезает в просторный совхозный автобус, закуривает там и, поглядывая на себя в черное зеркало окон, едет до железнодорожного моста. Когда машина останавливается, люди нехотя выбираются на волю. Они смотрят на парное молоко, разлитое над невидимой речкой, на розовое небо за кустами, на солнце, которого еще нет, но рождение которого угадывается уже по этому пару, по тихому туману, по теплу. Они смотрят на глубокую тяжелую траву и просыпаются, веселеют.
— Хороша! — говорит кто-то про траву, осыпая с нее ладонью росу. — Эх, хороша!
Трава и в самом деле хороша на берегу реки. Но взять ее можно не косилкой, как на ровном лугу, а только косой — кругом вон какие ямы да бугры.
Кто-то из самых нетерпеливых да молодых, вжикнув косой, кладет первый валок. Это все равно, что за столом, не ожидая всех, откромсать кусок пирога, испортить его. Поэтому со всех сторон на смелого шумят:
— Не балуй! Вперед не лезь! — и обращаются к Лешачихе: — Становись-ка, Настасья Петровна!
Читать дальше