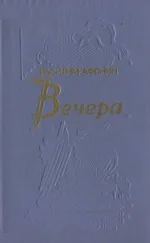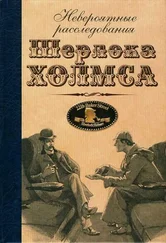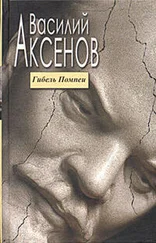— Проехали Черемшанку. Пусто на улице, спросить не у кого, контора в стороне.
— Катерина! — окликнул на выезде Харламов знакомую бабу, поднимавшуюся с ведрами от проруби. — Ваши уехали в город или собираются только? Не знаешь? А?
— Не-ет, не уехали, — откликнулась та. — На следующей неделе думают. Путь плох.
— Ихнего Горбача кто обойдет, тот еще не родился. — Тимофей сел рядом с Павлом. — Закурим одну на двоих, Павло, носы дымом погреем. А то отмерзнут. Как без них?
— Не свернуть мне, — Павлу шевелиться нет охоты, — пальцы занемели, только табак просыплю. На морозе таком. Потерпи до остановки. Лишнюю закрутку сэкономим...
— Да ну-у, — засмеялся Тимофей. — До остановки — ого! Ты подыши в варежки, отогрей. Давай, газетка у меня есть. Где у тебя кисет? Да шевелись ты, черт стылый. Ну!
— Побил Павел рука об руку, подышал, помял пальцы, свернул кое-как подлиннее, чтобы на двоих хватило. Закурили. Потянет-потянет один, другому передаст. Намокший конец самокрутки сразу застывал, едва отнесешь от губ. Полегчало чуть.
Рассвело. Солнце тугим малиновым краем поднялось чуть над заснеженным лесом. Холоднее стало на восходе. Скрипят сани, быки — кричи не кричи — размеренно переставляют ноги. Пар от морд бычьих, пар от дыхания людей, снега во все стороны, согры. Тимофей соскочил с саней, отстал, чтоб пробежаться. Эх, мать родная! Озяб.
— Н-но! — слышится с передних саней, Глухов погоняет. Путь долгий до района, до города вдвое дольше. А у быка скорость одна, растянулся обоз на версту: — Н-но!
— За день прошел обоз верст тридцать с лишним, как раз до Фросиной заимки добрались. Заимка — просторная изба в две комнаты, печь, полати — принадлежала когда-то, при единоличной жизни еще, бабе одной. Незамужняя, бездетная баба та Фрося всю жизнь промышляла в тайге птицу, зверя, сдавая пушнину и мясо торговцам. Тем и жила. И то ли зверь ее смял, то ли зашла далеко и заплутала, только не вернулась она однажды с охоты, и не нашли ее, как ни искали, мужики.
С начала колхозов изба и сенокосные угодья от левобережья Шегарки до самого бора отошли Каврушам. Из года в год колхоз косил тут траву, оставляя на зиму часть скота. За скотом, почти не выезжая с заимки, ухаживали два старика. К старикам отогреться, ночь перетерпеть заезжал, заходил всякий, кого темь или непогода заставали в пути. И обозы всякий раз — в город ли шли, обратно ли возвращались — сюда заворачивали. И сейчас мужики надеялись на заимку, поглядывали на избу, подъезжая, но Глухов, не останавливаясь, так и проехал мимо Фросиной избы. Вот сани его минули поворот. За ним остальные подводы. Не остановился.
— Он что там, уснул? — Тимофей соскочил с воза. — Так я его разбужу, косорылого...
— Не затевай! — окликнул его Павел. — Сцепитесь опять. Он до Залесова тянет, тетка у него там, кажется, живет. Садись. Тут недалеко, версты четыре всего осталось, вот и заночуем. На заимку лучше бы, конечно, свои там. Ну, он ведет обоз...
— Глухов тянул до Залесовского хутора. Там у него действительно жила родственница, но Глухов к ней никогда не заезжал. Кроме колхозного мяса, в передок саней уложил он сейчас около центнера лосятины и несколько брусков свиного сала — в город на продажу. Еще на выезде из Каврушей, сидя закутанный в тулуп на возу, он задумал — к первой же ночи обязательно добраться до Залесовского. Остановится у знакомого мужика, достанет из мешка отрубленный заранее кусок лосятины, сварит на вечер и на утро. Ночевать на заимке — значит варить и есть мясо на глазах у обозников, чего Глухов никак делать не хотел. И к тетке он совсем не думал заезжать. У нее четверо ребятишек, начнешь есть, сядут возле стола, станут в рот заглядывать, не рад будешь мясу. К знакомому — оно спокойнее.
Мужик тот давно ходил как бы в должниках у Глухова, всегда принимал его и на добро глуховское не зарился. Доехали до хутора, Глухов сразу свернул к знакомому, наказав следовавшему за ним Милованову, чтобы мужики сами себе искали квартиры да выходили ночью к возам — не дай бог, случится что! Он, Глухов, отвечать не станет.
Сорвин с Миловановым, а за ними Данила-кузнец проехали в глубь деревни, Павел с Тимофеем попросились в крайнюю избу. Хозяин им попался приветливый, ранен был он на войне в ногу и припадал на нее в ходьбе, опираясь на палку.
Обозники сели к теплу, к топившейся печке, закурили. Павел угостил табаком хозяина. И по тому, как тот, торопясь, сворачивал самокрутку, как, откинув на сторону дверцу печки, поймал уголек и, обжигаясь им, перебрасывая с ладони на ладонь, потянул, понял, что курец он заядлый, а табаку, видно, не имеет. Это хуже всего.
Читать дальше