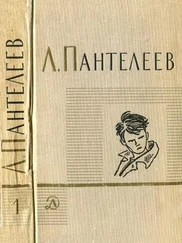Вместе с мамой я подхожу ближе. Какой он худой, желтовато-серый, этот мальчик! Какой грязный, рваный. Жонглируя своими четырьмя ножами, он все время косит свои и без того раскосые глаза в сторону подоконника. Что он там увидел, на подоконнике? А там на фаянсовом блюде или на большой тарелке лежат холодные вчерашние котлеты.
Продолжая жонглировать, китайчонок делает шаг вперед, полшага в сторону, потом, быстро поймав один за другим все свои ножи, засовывает их за пояс, протягивает к окну свою грязную-прегрязную руку, хватает чумазыми, почти черными пальцами противную на вид серую котлету и всю целиком запихивает ее себе в рот.
— Ты что? — кидается к нему Даша. — Пакостник ты! Фулиган! Ходя!
Он вытаращил глаза, съежился, даже присел немножко, с трудом проглотил котлету и сказал так жалобно и таким тоненьким голосом, что у меня сердце защемило:
— Кусяти хосете осеня.
— Кусяти, кусяти, — передразнила его кухарка.
— Не надо, не сердитесь на него, Даша, — мягко сказала мама.
Она велела кухарке завернуть в пергаментную бумагу оставшиеся котлеты, положить туда побольше хлеба и еще какой-то провизии, а сама сходила в спальню и принесла китайчонку серебряный рубль. Он почему-то ужасно испугался, схватил монету, сунул ее себе в рот, за щеку (да, да, в рот и за щеку), потом быстро вытер рукавом сальные губы и, не сказав ни «спасибо», ни «до свиданья», повернулся и ринулся на лестницу.
Все дни, пока был болен Вася, я ночевал в родительской спальне. И в этот вечер, устроившись поуютнее на большой папиной кровати, под большим одеялом, натянув это одеяло себе на нос, я собирался, как обычно, перед сном помечтать — о посылке из Китая, о фарфоровых чашечках, о живом китайчонке. Закрыл глаза и вдруг увидел перед собой серые скрюченные пальцы, тянущиеся к белому с голубой каемкой блюду. Увидел в этих грязных пальцах такую же серую, длинную котлету и вдруг на всю квартиру заплакал.
Прибежала мама.
— Лешенька, милый, детка, что с тобой? О чем ты?
Уткнувшись лицом в папину подушку, я плакал и не мог остановить слез. Я так плакал, что начал икать.
Присев рядом, мама обнимала меня, целовала, гладила мою стриженую голову.
— О чем ты? О чем? — без конца спрашивала она.
Что мог я ответить ей, когда и сейчас, очень много лет спустя, я не знаю, о чем я тогда плакал.
…На этом все и кончилось.
Не было больше ни альбомов, ни марок, ни фарфоровых чашек, ни живых китайчат. А заодно куда-то исчезла вскоре и наша премудрая воспитательница.
1974
Шел первый год войны — той, что теперь в учебниках истории называют первой мировой. Но тогда еще не знали, что будет вторая, поэтому для нас это была просто война с немцами, или с тевтонами, как их часто ругали в газетах.
В те дни я, как и все, кто меня окружал, был настроен весьма воинственно, гордился, что папа мой — в Галиции, на передовых. По утрам, открывая «Петроградскую газету» (еще совсем недавно она называлась «Петербургской газетой»), прежде чем обратиться к сообщениям штаба верховного главнокомандующего с Западного и Кавказского фронтов, я очень бегло и неохотно пробегал глазами список убитых офицеров и более внимательно проглядывал списки раненых. Не признаваясь в этом даже самому себе, я искал и, пожалуй, не прочь был бы увидеть в длинном газетном списке фамилию некоего Еремеева И.А., поручика. Нет, избави боже, я не хотел, чтобы отцу оторвало руку или ногу, не хотел, чтобы он приехал домой калекой, но какое-нибудь легкое ранение в плечо или, скажем, в верхнюю часть бедра — это, говоря по правде, меня устраивало. Во-первых, это значило бы, что отец вернется домой, а во-вторых, вернулся бы он не просто офицером, а офицером-героем.
Раненых в то время в городе было еще не так много, они всюду обращали на себя внимание; в трамваях мальчики, в том числе и я, при появлении раненого офицера вскакивали, спешили уступить место. Восхищенными и даже завистливыми глазами провожали мы этих людей на костылях или с черными эбонитовыми палками, или с рукой, согнутой под острым углом и засунутой, как в муфту, в черную креповую повязку, перекинутую через плечо.
Конечно, завидовали мы не только раненым. Возвращаясь после уроков из училища, я часами простаивал на широком Троицком проспекте, где в те дни восхитительно пахло мокрым шинельным сукном, сапогами, махоркой, где с утра до ночи занимались солдаты-новобранцы: маршировали, пели про канареечку-пташечку, бегали, кричали «ура», ползали на животах по булыжной мостовой, щелкали затворами, прокалывали штыками соломенные чучела, рассчитывались «на первый-второй», снова бегали, снова шагали и снова с присвистом пели про канареечку-пташечку, которая жалобно поет…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу