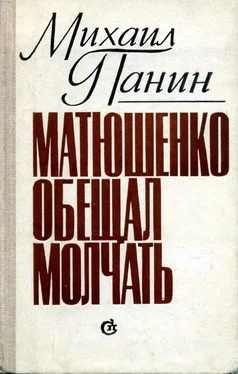— Сколько же вам лет?
— Угадайте!
— Ну-у... лет тридцать пять.
— Не угадали! Я с тридцатого года! — Костя сдергивает с головы кепку, наклоняет, голову и хвалится сединой. — Пожалуйста! «Уже по вискам потекла седина...»
Дождь почти прошел, и женщина собралась идти. Тогда Костя осторожно берет ее за руку выше локтя.
— А как вас зовут, если не секрет?
Она смотрит на его руку с татуировкой на пальцах — «К о с т я». Нервно краснеет. Потом тихо говорит:
— Светлана Ивановна.
— А меня Костя! Всего хорошего, Светлана Ивановна! Увидимся еще! — кричит он вслед новой знакомой.
Светлана Ивановна быстро удаляется по дороге. «Тук-тук-тук» — стучат ее каблучки. Ах, женщина! Костя нахлобучивает кепку на самые глаза, задрав голову, улыбается ей вслед. Светлана Ивановна... На углу возле электроцеха Светлана Ивановна оглядывается и машет ему рукой.
Если кто-то думает, что Костя бабник, тот не прав. Просто он любит женщин, как иные люди любят цветы. Костя так и считает: женщины — цветы жизни. Есть очень хорошие цветы, а есть — не очень. Скажем, Наталья Степановна, классный руководитель Костиной дочки, — эта похожа на какой-то цветок, которому Костя, городской житель, не знает имени. Цветок видный, на крепкой высокой ножке, но с неожиданно резким, неприятным запахом. Как-то звонит Наталья Степановна по телефону: уважаемый товарищ, приглашаем вас рассказать восьмиклассникам о романтике рабочей профессии. Ясно... Рассказать так рассказать. Костя надел белую рубаху, галстук. В канцелярии сидел в глубоком кресле, нога на ногу, и курил болгарскую сигарету с фильтром.
— Сварщику мно-ого знать надо, — солидно рассуждал, — физику, химию, математику. А как же! Без этого нельзя. Книги специальные читаем. Хорошая работа. На заводе, на стройке сварщик — первый человек. Без нас нигде не обойдутся. И привилегии нам: спецмолоко бесплатно, отпуск двадцать четыре дня и на пенсию идем раньше, — перечислял Костя романтику.
Наталья Степановна вежливо слушала. Хорошая женщина. Все на ней как на картинке: платье, туфли, модная прическа. Костя прислушался к себе и решил, что он совсем не прочь бы на ней жениться. А Наталья Степановна и говорит:
— Да, да, время сейчас такое — сварщик, слесарь ценится выше инженера!..
— Ну, не выше, — скромничает Костя. — Наравне.
— А почему, скажите, сварщики уходят на пенсию раньше других?
Костя даже подскочил. Вот тебе и на! Чего же тут непонятного? Работа ведь какая: металл горит, дым едкий, подышишь смену — за день не отплюешься.
— Понятно, — кивает Наталья Степановна. — Хорошая работа...
— Хорошая, — сказал Костя. И покраснел. «А ты, милая, с юмором...»
— Ну ладно, а что-нибудь такое, — Наталья Степановна энергично покрутила в воздухе рукой, — что-нибудь о романтике в профессии сварщика вы нам можете рассказать? Детям необязательно ведь знать теневые стороны. Понимаете?
— Как не понять, — сказал Костя. И встал. Нет, о романтике он ничего не мог сказать. Романтика была где-то там, в морях и океанах, в небе, в космосе, в ядерных физических институтах. И еще романтика была в детстве, в его детстве, которое кончилось зимой сорок второго года, когда умерла мать и соседка отвела его, хилого, в ремесленное училище. С тех пор Костя изо дня в день, тридцать лет, ходит через одну проходную, за которой стихия, непонятная и чужая этой дамочке, — завод. Что такое романтика? Птица? Рыба?
— Романтика — это то, что возвышает человека, — привычно объяснила Наталья Степановна.
— Значит, это труд, — сказал Костя.
— Да, да, труд... Чего же вы? Так и скажите им. Это в русле...
Но Косте почему-то обидно стало за всех сварщиков на земле.
Возле второго механического Костя замедляет шаг, переходит дорогу и любуется новым цехом. Задирает голову. Махина! Стекло и бетон. А еще лет пять назад на этом месте была прокатка, приземистая, красного кирпича. Костя помнит ее в войну: в пыли, в грохоте изможденные черные фигуры, раскаленный металл и кусок сала у прокатных валков, огромный кусок висит на веревке — смазка. А рядом часовой с винтовкой. Чтобы не съели смазку. Ночами бредил Костя этим куском.
Он входит в цех и идет по проходу, придерживая зажатую под мышкой плиту. Молодые рабочие у фрезерных и токарных станков иронично поглядывают на Костю. Костя небольшой, а плита под рукой здоровая, чуть ли не в метр. И вообще Костя с виду мешковат, спецовку по старой памяти берет в кладовой «на вырост», на два размера больше, и потому похож слегка на клоуна. Он не задерживается нигде, здесь все молодежь теперь, не чужая, но во многом и непонятная Косте. Придут после армии на завод, поживут годика два в общежитии и начинают — квартиру им подавай, жениться надо. Ну и женись, как женился в свое время Костя. Привел в комнату свою Любашу, отгородился от остальных пяти обитателей ширмой. Не ахти как, но жить можно... Там, в общежитии, и Ленка родилась, а потом уже на очередь поставили Костю. Все так жили. А этим сразу дай... А того не понимают, что, если нет у тебя семьи, кто ж тебя на очередь поставит? Слишком долго он голодал в войну, а потом и после войны, слишком много работал с детства, слишком привык мерить все на старые деньги, на карточки, на ордера, чтобы понимать этих сытых, независимых юнцов. Вон они, стоят нога за ногу, дымят сигаретами по пятьдесят копеек за пачку. Прохаживаются туда-сюда или сидят, пока резец снимает стружку. А Костю учили другому. Стоять. Стоять всю смену. Сидеть нельзя. Почему? Не положено токарю. Даже когда нет работы, простой, не положено. Не положено. Это вошло в кровь.
Читать дальше