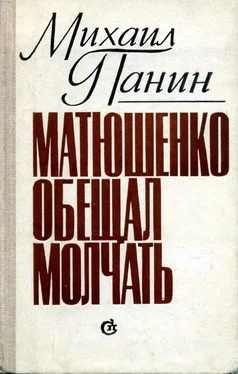— Что — другое?
В сгустившихся сумерках ему было не разглядеть ее лица.
— Что — другое? — как эхо повторил он.
— Ладно...
— Нет, не ладно!
Он дотянулся до выключателя и зажег свет. Странно, но она вовсе не плакала, как ему казалось, а смотрела на него устало и чуть насмешливо.
— Что ты кричишь? — сказала она. — Просто я подумала, грешным делом, что ты вспомнил, как тридцать лет назад мне в любви клялся. А ты, наверное, свою Анну Митрофановну вспомнил, ты ведь ее тоже, кажется, любил.
Он вдруг побагровел, вскочил, держась за спинку стула, хотел крикнуть ей в лицо, но вместо этого сказал тихо:
— Скракля ты скракля... И откуда ты на мою голову взялась! Повесилась на шею. Ты мне испортила всю жизнь.
Она кивнула:
— Так мне и надо, дуре, повесилась... Господи, какая я была дура. Какая дура... Помню, увидела в первый раз — и в глазах потемнело: вот это, думаю, мужчина, сильный, красивый. Такого бы спутника — на всю жизнь. Бабник, правда, но, думала, перебесится. А оно видишь что оказалось — того хуже: мешок... Большой красивый мешок. И никогда я тебе не вешалась на шею — откуда ты взял? У тебя богатая фантазия. Любила — да. Но ты сам мне предложил и руку и сердце, помнишь, я к тебе домой пришла, к больному? Да что теперь вспоминать — жизнь прожита. Я перед тобой ни в чем не виновата. И мой высокий пост, пожалуйста, не трогай — сам смолоду к постам стремился. Педагогическую поэму все собирался написать. Не получилась поэма. Уж больно ты любишь поспать. Без меня ты вообще зарос бы мохом.
Но Юрий Матвеевич ее уже не слушал. Накинув на кухне ватник, в котором ходил обычно на рыбалку, он хлопнул дверью и почти выбежал на улицу.
Он вернулся через три часа. Ходил далеко, бродил в темноте вдоль речки, посидел на своем любимом камушке у самой воды. Дома остались и сигареты, и валидол... Сигарету стрельнул у какого-то запоздалого рыбачка, но, помяв ее в пальцах, курить не стал, видно пора бросать это дело навсегда.
Машины возле дома уже не было. Дача стояла темная, без единого огня, и он, почему-то волнуясь, заспешил. Не скинув ватника, почти бегом он прошел через веранду, кухню, вбежал в комнату и, затаив дыхание, прислушался. И разом успокоился, услышав в темноте знакомое, похожее на скрип калитки, похрапывание жены.
Он постоял. С левой стороны груди все же слегка давило, и он, вытянув перед собой руки, стал на ощупь пробираться к шкафчику, где у них хранились медикаменты:
Калитка перестала скрипеть.
— Что ты там ищешь? — услышал он.
— Ты спи, спи. Я — валидол... Не видела где?
— Не видела. Возьми мой — в сумке.
Он поблагодарил... Положил таблетку под язык, на цыпочках вышел из комнаты и на кухне повесил ватник на гвоздь. Не зажигая света, далеко высунулся в окно. Ночь опустилась тихая, без ветра, обдала с улицы влажным прелым теплом. Градусов пятнадцать есть, подумал. Что твой июнь, красота.
Рыбалка завтра будет приятной.
Когда Степка родился, его полгода звали то Игорьком, то Егоркой; Егоркой нравилось отцу, Игорьком — матери. Но потом отец твердо решил назвать его Федором, как деда-упокойника, который в деревне, где вырос Степкин отец, имел самый красивый почерк, знал наизусть «Гавриилиаду», а вдобавок к своей интеллигентности мог одной рукой остановить на скаку лошадь и съесть на свадьбе целого барана. Если, конечно, дадут. Так в Степкиной метрике и записали: Федор Иванович Понырев. Но спустя еще время отец стал жалеть, что не назвал его в честь любимого брата Степана, год назад погибшего в геологической экспедиции. Брат отца работал у геологов проводником. Однажды геологи сильно замерзли, а согреться им было нечем. Тогда Степан, ни у кого не спросясь, переплыл широкую бурную речку, взял в деревенском магазине ящик спиртного, привязал к нему четыре надутые футбольные камеры и, толкая ящик впереди себя, поплыл обратно в лагерь. Стояла уже ночь, заладил дождик и, хотя в деревне Степан успел хорошо «разогреться», сил на обратный путь не хватило. Утром геологи нашли на берегу ящик, а самого Степана больше никто никогда не видел. «Утонул, а вино все-таки доставил», — часто рассказывал за столам отец, и не понять было по его глазам, чего в них больше — восхищения ли, страха... И он стал звать Степку Степкой. И матери больше понравилось — Степка, и всем: и соседям, и знакомым, и многочисленным приятелям отца. Даже в школе, куда Степка начал ходить в прошлом году, в журнал записали: Федор Иванович, а все зовут — Степка. Даже учительница. «Понырев, — вызывает к доске, улыбнется и непременно добавит: — Степа...» Да и как не улыбнуться: торчит над партой стожком соломы белая Степкина голова, а по круглому лицу, как зерна, конопушки рассыпаны. Оттого напоминал он робкий подсолнух, случайно выросший в огороде среди лука и огурцов. И точь-в-точь как подсолнух к солнцу, так и Степкина голова да уроке всегда повернута к окну. Он плохо слушает, о чем говорит учительница, и потому в дневнике у Степки одни двойки.
Читать дальше