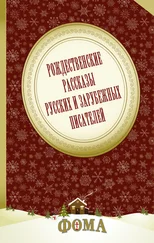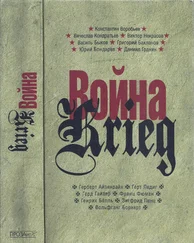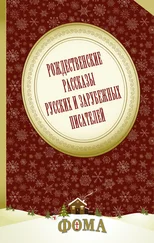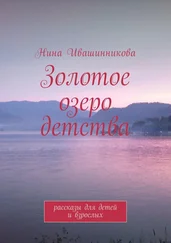— Где ты, когда, Родионыч? — несмело спросил старик Бороздин.
— Вчера привел. В Сороке купил, у цыган, — тоже вполголоса ответил Матвей. — Одну ночь и простоял конь в моем конюшнике. За всю жизнь… А кличку написал сегодня утром…
— Где твоя смола? — закричал младший Бороздин, приплясывая от нетерпения. И, схватив поданный Матвеем котел со смолой и кистью, мигом забрался на жердь соседнего с Пушкарем стойла, разбрызгивая смолу, размашисто вывел: «Растяпа». Так звали его нескладную, но порывистую до бестолковости кобыленку.
Котел пошел по рукам, над стойлами на долгие годы появились клички: «Хитрая», «Колян», «Злюка», «Шурин». А по деревне шел тарарам: кто из баб ревел в голос, кто истово ругал мужа — уводили навсегда из дому на колхозную конюшню лошадей, тащили охапками и тюками сено. Последним, уже на вечеру, привел свою Ольшу Андриан Кокорин, долго не мог загнать в денник к другим жеребятам ошалевшего от непривычного перенаселения в конюшне Обуха. Ругался с председателем из-за своей же оплошности — Ольше досталось холодное, первое от ворот стойло — остальные были уже заняты. Нудно наставлял новоиспеченного конюха Савелия Бережного, молчаливого, себе на уме старикана. Тот слушал-слушал Кокорина, а потом не говоря ни слова развернул за воротник к выходу из конюшни и под восторженный визг парней выпроводил вон, цыкнув на ребят:
— Тута вам не спектакля ваша — катитесь по домам!
Закрыл за собой ворота и надолго в блаженстве замер, слушая дружное хрупанье, сторожкое фырканье и храп коней. Всю жизнь свою провел Савелий на чужих конюшнях, а своей лошади не заимел. Но любил и понимал коней лучше, чем людей: председатель знал, кого выбрать конюхом.
Не мог заснуть в ту ночь и Андриан Кокорин: вздыхал, тяжело кряхтел, ворочался на скрипучей кровати. Странное дело, ему не столько было жалко Ольшу, сколько жеребенка. Соседа своего клял: «И все-то ему поперед надо высунуться…» И негодовал, и насмехался: «Ночь одну и был Матюха лошадником — хозяин называется!»
Бередышин же и вовсе до утра спать не ложился: сидел у окна и любовался на черневшую на фоне светлого звездного неба конюшню. И радовался тому, что вошел в колхоз не хуже других прочих — с конем, да еще с каким! А уж с коровой расстаться и вовсе просто — на кой ляд она им, двоим? Но чувствовал Матвей, что радость его не шибко натуральна, и от того свирепел на себя, а пуще, непонятно почему, на соседа: «Опять в последних, волосатый леший, оказался!»
…Так оно и шло. Потихоньку старели соседи — на седьмой десяток перевалило. А на поле ли, на покосе ли, все следили-выглядывали — как работает да что говорит сосед. Матвей в колхозе словно забыл о своих ранах и сухой руке, может быть, и от времени, только работал наравне со всеми и косой, и топором, и веслом. В работе не знал себе равных и Андриан Кокорин. Одна только и была между ними разница: Матвей вовек не рядился о плате, Андриан же и ногой не ступит, не проведав прежде, сколько за это дадут, да еще доплату стребует. Но особо за это его никто, не осуждал — привыкли уже. Перед войной старики совсем сдали, и их вернули к прежним профессиям — Кокорина на мельницу, Бередышина на смолокурню.
Но ни годы, ни старость не мирили соседей. Не было собрания или заседания правления, когда бы старики не сцепились. Делят по осени доходы. Председатель предлагает:
— Надо купить молотилку, кормозапарник, соломорезку, радиоаппарат в избу-читальню, крышу школьную перекрыть, посуду в детских яслях обновить, в районе нетелей-холмогорок продают…
Матвей Бередышин при каждом слове Ивана Петровича согласно кивает головой и дым его носогрейки тянется к потолку изломанным голубым жгутом. А Кокорин, не дождавшись конца председателевой речи, уже взвивается:
— Эко Матюха кивает головой, как конь от комаров, — завсегда согласный! На кой нам леший молотилка — век цепами обходились. Радиво, тес, на школу с какой попышки на колхозные деньги? Сельсовет на что? А на трудодень что, рубль с копейкой? Матвею все равно, у него трудодней — кот наплакал… А мне эти ясли вовек не нужны — отдайте заработанное!
Бередышин обычно тоже не ожидал конца кокоринского выступления, вскакивал, потрясая трубкой, словно саблей, кидался в бой:
— За собой в могилу трудодни потащишь, кокора ты несусветная? Эко, даже трясется от жадности! Ну куда тебе столько картошки на трудодни? Со своего участка в подполье не уберешь! Не слушайте его, мужики, продать надо картошку, а купить все, что Петрович говорит! А что касаемо трудодней… Таисея, — обращался он к счетоводу, — вынь мою книжку, посмотрим — у кого больше?
Читать дальше