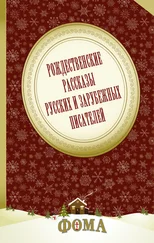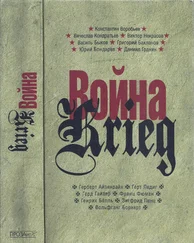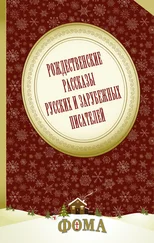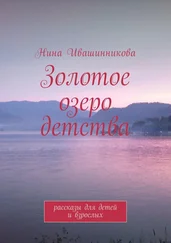— Кто тебе шьет одежду по прежнему фасону? — удивилась я. — Молодые так шить не будут.
— Сама шью — руками, а не машиной. Нитку в иголку попаду еще очень хорошо. Никого не утруждаю. А сатинов да ситцев надаренных в сундуке у меня хватит. Шей да крой, носи да понашивай, у людей не попрашивай!
— Как твое имя-отчество, хозяйка? Бабушкой звать тебя неловко мне. Сама я уже давно бабушкой стала.
— Зовут меня Овдокки. А если уж повеличать хочешь, то Никитична. Отца моего звали Ожатой Микки (несчастный Никита). Ни в чем не было счастья этому человеку, родителю моему покойному. Век он горе горевал да раньше времени и в могилу попал. В лесу деревом задавило. Меня да брата с малолетства сиротами оставил.
— Ты, Никитична, в молодости, наверно, красавицей была. А была ли ты счастлива? Или у Ожатой Микки — ожатой лапси? (у несчастного Никиты — несчастное дитя?)
Спросила и… испугалась. Надо же было допустить такую бестактность! Вдруг обидится старая женщина! Но она не обиделась, а засмеялась звонко, весело, даже откинулась на спинку стула. Потом приумолкла, вздохнув.
— Красотой своей только глупые люди хвастаются, — сказала она с суровой ноткой в голосе. — А показать тебе, какая я в молодости была, никак не смогу. В ту пору на карточки мы не снимались, портретов не заказывали. Зеркала у нас в простенках не висели, чтоб мы на свою красу любовались. Да и в нашу молодость разнесчастную, будь ты хоть краше сказочной царевны, но если у тебя в доме не густо, во хлеве пусто, ни обуть, ни одеть, ни гостя принять, ни милостыню подать, — никто на тебя не позарится. Сваты матицу не перестучат. Женихи порога не обобьют. Если у невесты приданого нет, так добра молодца красой не прельстишь, умными речами не обольстишь, работящими руками не возрадуешь. Бесприданнице-красавице на долю достанется или старый вдовый, многодетный или пьяница-лентяй да недоумок-слюнтяй. Придется в девках вековать, если будешь по сердцу суженого выбирать.
Старушка вдруг замолчала и стала прихлебывать горячий чай из блюдца. Пришлось и мне последовать ее примеру.
Намолчались, нахлебались, успокоились. Лицо у Овдокки Никитичны подобрело и глаза засветились прежними задорными огоньками.
— Давай-ка, пяйвяне каунис, угольков горячих в самовар подбросим, а то он уже не шумит. У потухшего самовара сидеть да беседовать — мало радости… А счастливая я была! Только счастье мне случайно досталось.
— Расскажи, Никитична, о своем этом случайном счастье, — взмолилась я.
— Всему свой черед, — степенно ответила она. — Вот тебе невестка порошков оставила. Выпей с чайком. Потом блинков поешь. А то подожди-ко, я рыбник с ряпушкой разрежу. Вишь ты, какая квелая, ничего не ешь. А я, благословясь, ем-поедаю, хоть и денег не наживаю, да и без дела не сижу. Вот сейчас щи в печку поставлю, до вечера горячими будут. А завтра воскресенье, невестка калиток напекет. Деревенская наша пища не хуже городской. Она всем по вкусу, на каждого угодит. Вот мы с тобой, пяйвяне каунис, отпорядничаемся и заляжем на спокое. Я — на печку, ты — на кровать. Хватит нам времени, до вечера все мои счастья да несчастья по полочкам разложить. Сын да невестка под вечер только явятся. Она в конторе работает, на лесопункте. Он — в гараже. Маются из-за меня, а ведь в поселке-то квартиру давно бы дали. А мне от печки родимой не хочется трогаться.
Лукаво ухмыльнувшись, она добавила:
— Скоро и им на отдых уходить придется. Оба до пенсии последний годок отрабатывают. У сына да дочки внуки большие. Правнуков у меня пятеро. Только и внуки, и правнуки далеко от родного гнезда. Но залетают к нам, не забывают, особенно в летнюю пору…
Вдвоем мы быстро управились с несложными хозяйственными делами, улеглись в теплом, полутемном закутке. И словно листы старой книги, зашелестели тихие слова рассказчицы, повествующей о том, что было давным-давно в нашем суровом северном крае…
— Родилась я не здесь, а за три версты отсюда, в такой же маленькой деревушке. Теперь ее и в помине нет. Во время войны финны сожгли, а как жители с эвакуации вернулись, построились на новом месте, поближе к столбовой дороге.
Не было, пожалуй, на родимом местечке беднее нашей семьи. Отец в молодости еще надорвался, бревно тяжелое поднял, чтоб перед женитьбой избу свою поправить. К венцу пошел с грыжей, да так век свой охал, да болел, ворожеям в ноги кланялся, с последним пятаком расставался. От того и смерть пришла к нему ранняя. Ни силы, ни ловкости, ни сноровки не было.
Читать дальше