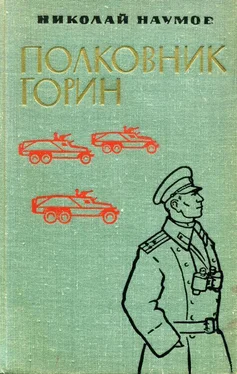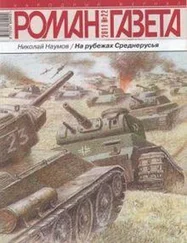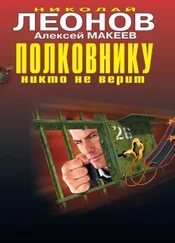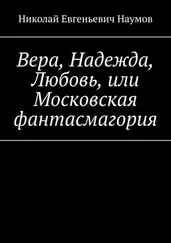Что было дальше, вспомнить не мог. Попробовал лечь удобнее, тут же услышал голос сестры:
— Нельзя! Нельзя шевелиться! Сейчас придет врач.
Врач пришел через несколько минут. Знобин попросил его:
— Запишите, что я вам скажу и передайте генералу армии Лукину. В полном сознании удостоверяю: попал под машину в результате приступа… Напишите по-медицински. Никого в моем несчастье не винить. Доктор, очень важно, прошу. — Передохнув, попросил: — Если придет полковник Горин, пропустите…
Горин надел халат и, думая, как бы меньше утомить Павла Самойловича, вошел в палату. Ресницы Знобина дрогнули, уголки рта сдвинулись в улыбке. Михаил Сергеевич взял стул, осторожно, не стукнув ножками о пол, поставил его рядом с кроватью, присел и двумя ладонями, будто собираясь согреть, взял руку Знобина.
— Молчать! — мягко приказал он своему заместителю, видя, что тот пытается говорить. — С дивизией все в порядке. Учение закончили хорошо, не беспокойся…
— У тебя неприятности, не скрывай, вижу.
— Пустяк. Лишь бы ты…
— Не пустяк. Твоя судьба — не только твоя. Во многом она судьба многих… многих тысяч людей, солдат… — Знобин умолк, чтобы собраться с силами. — Не дай обиде подточить твой талант. Его надо не только оберегать, по и защищать.
— Ладно, обещаю. Будет все, как нужно. Я верю, верь и ты.
— И еще: поддержи, пока меня не будет, Желтикова. В нем есть божья искра. Беды, боюсь, погасят ее.
— Все сделаю.
— Что с Аркадьевым?
— Подавлен.
— Как с ним?
— Если генерал Лукин не решит его участь, надо помочь.
— Всю дивизию подвел.
— К учению не успел выздороветь.
— Как Люба?
— Уехала.
— Куда?
— К родным в Алма-Ата.
— Ни к кому не зашла?
— Была у Милы.
— Ну и?.. — Павел Самойлович с надеждой повернул к Горину глаза.
— К мужу ни в какую.
— Бес-баба.
— Может быть, к лучшему?
— Степанов засохнет там без нее.
— А вместе — оба. Или выкинет такой номер — стыда не оберется.
— Ты все же напиши ему письмо, — не хотел верить в неудачу Знобин. — Чтоб сплетням не верил, набрался терпения, хорошо дослужил…
От Знобина Михаил Сергеевич зашел к Светланову. После встречи ночью, у дома, перемена в Вадиме была заметная. В глазах, ушедших глубоко в себя, виделась до боли тревожная мысль, наверное о своем будущем, но она не нарушала обретенной им внутренней устойчивости, о чем говорила спокойная поза, в которой он лежал, аккуратная прическа и даже книга, сама собой соскользнувшая с одеяла на пол. Повернулся на звук — бледные щеки залил негустой румянец, а в глазах метнулась растерянность, будто Горин догадался, о чем он мог думать перед его приходом.
Горин не ожидал, что молодой офицер, спасший жизнь человеку, так разволнуется. И лишь когда подсел к нему, пришла догадка, что Вадим думал о будущем — будет ли оно: ведь нога раздроблена.
— Как себя чувствуете? — участливо спросил Горин, поднимая упавшую книгу.
— Врачи говорят — хорошо.
— А вы им верите?
— Хочется, — помедлив, ответил Светланов.
— Надо и можно верить. В полевых условиях, на фронте, хирурги делали очень многое, спасали не только жизнь, но и красоту. А сейчас они кудесники.
— Вероятно, не все.
— Очень многие. И наш Петр Степанович не хуже исцелителя Брумеля.
— Сколько раз вы были ранены? — спросил Светланов, желая обрести в ответе комдива уверенность.
— Четыре раза. Один раз очень тяжело, сразу пятью осколками. Жив остался чудом. Но слепили, зашили и — почти никаких последствий.
Вадим не отозвался. Он думал о том, что четырежды раненный Горин мог поступить в академию — у него ведь не только четыре ранения, но и четыре ряда орденов и медалей. Да и кто тогда шел в академию без ран? А вот как теперь ему, Светланову, когда и здоровых, из числа желающих, во много раз больше, чем могут принять в академии?
— Что, Вадим, вас беспокоит?
Услышав свое имя, Светланов не сразу поверил, что его произнес командир дивизии. Произнес просто, будто произносил его тысячи раз, и в то же время с добродушной иронией, как порой отец говорит маленькому сыну, чтобы подбодрить его, уверить, что он уже большой и ему не к лицу хныкать. От нахлынувших чувств сделалось жарко, в глазах защипало, и он уже не мог, не хотел скрывать от Горина ничего, ибо понимал: нельзя таить сомнения и невзгоды от человека, который поверил в тебя и хочет добра.
— Неудобно говорить о себе, но только теперь я понял, как неправильно вел себя раньше, сколько еще глупого мальчишества было во мне. Вижу, служить надо иначе, но одно тревожит: примут ли меня теперь, с покалеченной ногой, в академию?
Читать дальше